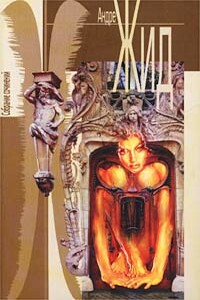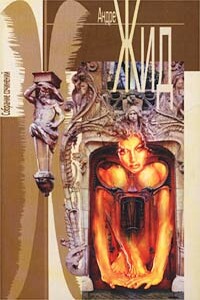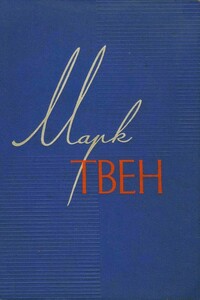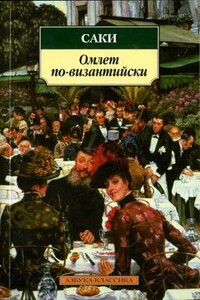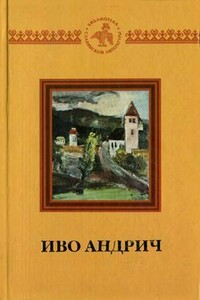Кювервиль, 19 августа 1913 г.
Я с радостью надписываю Ваше имя на первой странице этой книги. Она была Вашей всегда – во всяком случае, с того времени, как стала обретать форму. Припоминаете ли Вы день, когда Вам я рассказывал о ней? Это было в Кювервиле такого-то года; дул сильный ветер, и мы шли в Этрета смотреть на прилив. Ваш любезный интерес к моему рассказу сильно ободрял меня все время, пока я его писал.
Первый замысел этой книги возник еще раньше. Вы напомнили мне: я Вам о ней говорил на другой день после того, как Вы возвратились из путешествия в Данию.
Сколько же лет-то прошло?..
Я знаю: в наши времена поспешной работы и недоношенных родов трудно мне будет кого-либо убедить, что я мог столь долго вынашивать в голове книгу, пока не решился ею разродиться.
Почему эту книгу назвал я «потешной повестью»? Почему три предыдущих – «рассказами»? Чтоб показать, что они, собственно говоря, не «романы».
Впрочем, это не важно: пускай за романы их примут, лишь бы только потом не пеняли мне, что я нарушил «законы жанра» – не указывали, к примеру, на неясности и беспорядок.
Рассказы, повести… Мне кажется, до сей поры я писал книги лишь иронические (или критические, коли Вам так больше по нраву), и эта из них, очевидно, последняя.
Я стою на том, что недостаток произведений нашего времени – их скороспелое появление, поспешность художника, не успевающего их выносить. Но не дай Аполлон мне судиться с эпохой! Кто недоволен – пускай кривится. Я говорю все это лишь для того, чтоб предуведомить тех, которым в «Подземельях» будет угодно видеть какое-то уклоненье, отреченье от прежнего, кто станет чертить кривую моего пути, выявлять эволюцию…
Меня же заботят вопросы лишь ремесла, и я стремлюсь только быть хорошим мастеровым.
Книга первая
АНТИМ АРМАН-ДЮБУА
Что до меня, то я свой выбор сделал: я выступаю за социальный атеизм. Именно такой атеизм я полтора десятилетия развивал в ряде своих работ…
Жорж Палант.
Философская хроника «Меркюр де Франс».
Декабрь 1912 г.
I
Лета 1890-го, при понтификате Льва XIII, слава доктора X., специалиста по лечению болезней ревматического происхождения, разнесшись, призвала в Рим Антима Армана-Дюбуа, франкмасона.
– Что же это? – восклицал Жюльюс де Барайуль, свояк его. – Вы затем отправляетесь в Рим, чтоб исцелить свое тело? Если бы только вы смогли там познать, кольми паче больна душа ваша!
На что отвечал Арман-Дюбуа со снисходительным состраданием:
– Бедный друг мой, посмотрите же на мои плечи.
Барайуль, человек благодушный, невольно переводил взгляд на плечи родственника; они подрагивали, будто вздымаясь от смеха утробного, неудержимого, и, верно, велика была жалость зреть, как это пространное, полупараличное тело в таких глумливых движениях исходит остатками мускульных сил своих. Что ж! Каждый на своем они стояли прочно, и красноречие Барайуля ничего изменить не могло. Может, изменит время? Таинственное действие места святого? Не скрывая безмерного разочарованья, Жюльюс отвечал лишь одно:
– Антим, вы меня весьма огорчаете. (Плечи тотчас же прекращали пляску, ибо Антим свояка любил.) Если бы только через три года, когда я приеду к вам на торжества юбилея, – если бы только я мог обрести вас тогда в покаянии!
Вероника, нужно сказать, сопровождала супруга совсем с иными намереньями: она была столь же набожна, как и сестра ее Маргарита, как и Жюльюс, и долгое пребывание в Риме отвечало одному из самых ее сокровенных желаний; она обставляла мелкими привычками благочестия свою монотонную, разочарованную жизнь и, неплодна будучи, окружала свой идеал тем попечением, какого не требовалось от нее для детей. Увы! Она уже не имела надежды привести к Богу своего Антима. Она давно знала, сколь упрям может быть этот огромный мозг, как заперт в своем отрицании. Аббат Флонс ей так и говорил: «Нет непреклонней решений, сударыня, чем дурные решения. Теперь надейтесь только на чудо».
И даже огорчаться она уже перестала. С первых же дней, как супруги устроились в Риме, каждый из них сам для себя устроил свою одинокую жизнь: Вероника – в хозяйственных хлопотах и церковных обрядах, Антим – в научных трудах. Жили рядом друг с другом и против друг друга, друг с другом мирясь, повернувшись друг к другу спиной. Этому благодаря воцарилось меж ними какого-то рода согласие, витало над ними какого-то рода полублаженство, и каждый из них, поддерживая другого, в том находил скромное применение собственной своей добродетели.