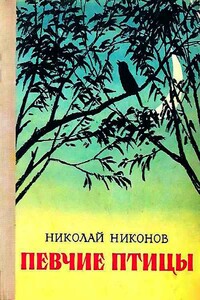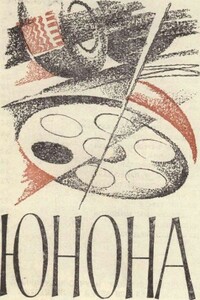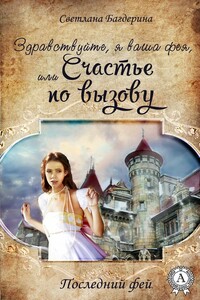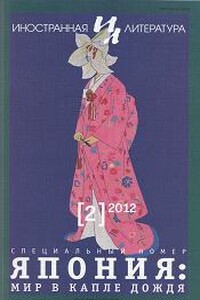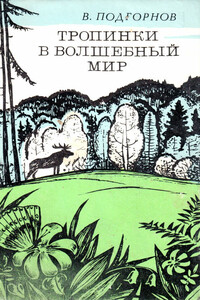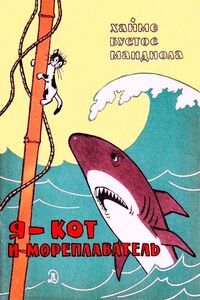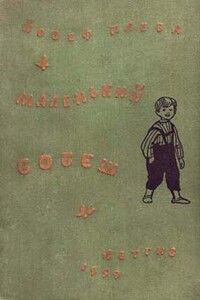Охотники сошли с высокой неудобной подножки вагона. Под ногами захрустела свежая насыпь. И сразу вместе с запахом этой насыпи, новых шпал и мазута пришел чистый прохладный запах леса, о котором ничего другого не скажешь, а только: «Пахнет-то как! Воздух-то!» И глубоко-глубоко вздохнешь, потянешь этот воздух, чтоб сильней насладиться, оставить в себе его свежесть. «А в городе сейчас…»
От этого запаха, тишины, воли, кроткого апрельского вечера и близкого леса становилось счастливо-отрадно, и паренек нетерпеливо топтался, глядел по сторонам, ему хотелось идти, а приходилось ждать, потому что отец и его приятель Арсений Михайлович закуривали, поправляли друг у друга рюкзаки. Пареньку было четырнадцать, недавно исполнилось, он был высок, худ, ясноглаз, ноги высоко торчали из огромных резиновых сапог. На нем была короткая брезентовая куртка-штормовка и старая кепка неопределенного цвета. Зато опоясывал талию настоящий охотничий патронташ с торчащими из гнезд гильзами и одноствольное ружье без чехла, очень потертое в казеннике и возле цевья. Паренек хорошо знал этот полустанок, крашенный охрой облупившийся дом, дощатую платформу на той стороне поезда - с нее садились те, кто ехал в город, а здесь сгружались те, кто шел к поселку. Вот и сейчас все еще неловко сползали с подножек бабы-молочницы в плюшевых кофтах, как обычно, с бидонами, сетками с желтым хлебом, колбасой и прочей городской снедью; женщин встречали девчонки, все какие-то на одно лицо, незапоминающиеся; тут же стояли две-три собачки и умно глядели, повиливая хвостами.
Недалеко от насыпи по палевым наледям шла неглубокая вода - речка. Через нее бревенчатый мост-настил, кое-где проломанный, дорога, а дальше- пологий, безмерно широкий увал Толстик, где вразброд и косо избы, бани, постройки станционного поселка.
По-весеннему было неприбранно: желтела в навозной дороге солома, грязно лежал обочь скипевшийся, обсосанный солнцем снег, лес за поселком рябил, лишь дальше по увалу он уплотнялся, синел и голубел, а небо над ним еще было отчужденно - северно, просквожено ветрами - оно и сейчас напоминало о недавно отступившей зиме. Зима в этом году была лютая, с такими снегами и заметами, что паренек едва дождался весны. Казалось, снег никогда не стает. Весна двигалась медленно. Был уже конец апреля.
Они перешли настил через речушку и стали подниматься на склон увала. Дорога вела единственной улицей, мимо распахнутой двери магазина. У крыльца по-вечернему толклись мужики и стояли плотные девушки в резиновых высоких сапогах, в ярких платочках. Они внимательно глядели на охотников, а пареньку одна даже подмигнула, и он, нахмурясь, поправил на плече брезентовый ремень своего длинноствольного ружья и еще громче захлопал голенищами широченных сапог. Отца и Арсения Михайловича, как видно, не задевали эти ухмылки и взгляды, а больше интересовали скворцы, по-вечернему уже слетевшиеся в поселок. Скворцы скрипели, высвистывали свое радостно-весеннее, сидя на проводах, столбах и скворечницах, везде мелькали их юркие фигурки, треугольно черные на розовеющем к закату небе.
За поселком, за пряслами огородов, за первыми оглоданными березнячками все людские звуки стихли и открылось неогороженное кладбище - десятка два пошатнувшихся во все стороны крестов и голубцов на недавно обтаявших могилах. Эти кресты почему-то не вызывали ни скорби, ни печали, как на городском кладбище с его теснотой и венковым тленом, - они даже вполне сочетались с этой неранней весной, пригорками, тощим березнячком, холодно-матовым небом и глинистой дорогой, по которой еще бежали плоские дневные ручьи. Хорошо было шлепать прямо по ручьям, по намытому песку и, оборачиваясь, смотреть, как затекает, заносит золотыми песчинками рубчатый след сапога и вот уж нет его - все угладило, а ручей так же плавно-неистощимо катит под гору, стремясь, должно быть, к той своей речке с желтой ледяной водой. Ручей не может без реки…
На опушке леса все трое остановились, торжественно достали ружья из чехлов, сложили, зарядили, а ружье паренька было без чехла, и он зарядил его раньше всех. Гильза плавно ушла в промасленный чистый патронник. Потом постояли, каждый по-своему наслаждаясь тишиной, сырым воздухом, звуком ручьев и редкими голосами птиц. И опять по-особенному дышалось здесь - не так, как на разъезде и в поселке, - еще чище, сырее был аромат мокрой земли, веток, почек, прошлогодних листьев и еще чего-то очень тонкого, остросвежего и весеннего.
- Подснежниками пахнет, - сказал вдруг Арсений Михайлович, и мальчик благодарно посмотрел на него, потому что Арсений Михайлович нашел и выразил то, о чем мальчик только что думал.
«Подснежниками пахнет, - повторил он про себя. - Как хорошо… Подснежниками…»
А отец сказал, что никаких подснежников еще нет. Рано. Холодно. Весна затяжная и снегу еще вон сколько. На северных склонах и вообще по пояс. Утки еще только что прилетели. Слышал. А вальдшнепы - вряд ли. «Подснежник!» - отец с усмешкой поглядел на своего приятеля и на сына. Отец был крепкий с квадратными плечами мужчина, из тех, что никогда ни в чем не сомневаются, все высказывают просто, определенно и верно. Даже курил он столь же уверенно, с видимым наслаждением, как бы давая и этим знать, что папироса на то и есть, чтоб ее хорошо выкурить и бросить, давя окурок тоже очень определенно - носком крепкого ялового сапога. Резиновых сапог на охоте отец не признавал, ходил всегда в яловых, которые задолго перед тем, как идти, смолил, промазывал, жировал свиным салом и дегтем, и паренек любил эти отцовы сапоги, потому что с ними связывались все его мечты о лесе, охоте, ночевках и выстрелах. Пареньку тоже хотелось курить (в кармане была припрятана мятая пачка «гвоздиков», которыми баловались на переменах зимой в уборной, а весной и осенью - за углом школы), но лучше сказать - ему не столько хотелось курить, сколько быть равноправным в компании взрослых. Он даже пощупал пачку в кармане.