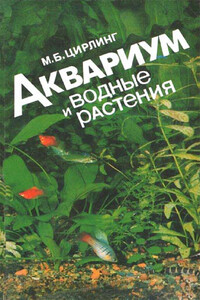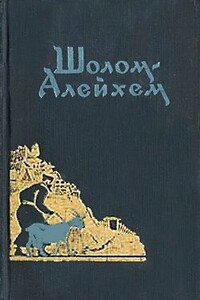Русская библиографическая наука развилась в нашем отечестве необыкновенно быстро и роскошно. Даже люди, убежденные в том, что Россия во всех науках достигла изумительного совершенства, должны согласиться, что ни одна наука не стоит у нас на такой высокой степени развития, как библиография. Нам даже кажется, что только в области библиографии являлись у нас до сих пор истинные ученые, в тесном значении этого слова, ради своей науки отрешавшиеся от всяких общественных, нравственных, литературных и иных интересов. У нас были и есть – и историки, и критики, и юристы, и политико-экономы, и математики, и натуралисты, и пр., и пр. Но все это, собственно говоря, не ученые; это – артисты, дилетанты, светлые головы, гении наконец, если хотите, но только уж никак не ученые. Всем памятно торжественное осуждение, провозглашенное целой партиею Грановскому за то, что он не был ученым;[1] не менее памятны нападки на Белинского за недостаток в нем учености.[2] В этом же смысле подымались голоса против Мейера, Кудрявцева и других людей, бывших полезными двигателями нашей общественной образованности.[3] И действительно, что уж это за ученые, когда наука интересует их не исключительно сама по себе, не своим абсолютным величием и отвлеченною красотою, а своим отношением к жизни и реальным своим значением!.. Это уж значит, что они жизнь предпочитают науке, что недостойно истинного ученого. Часто встречаются у нас в некрологах фразы, что вот, дескать, умер человек, всю свою жизнь посвятивший науке… Но все это обыкновенно бывает несправедливо и только так кажется на первый взгляд. Кроме библиографов, никто у нас жизни своей не посвящал науке. Были ли у нас, например, ученые, подобные тому аббату, который много лет употребил на исследование вопроса о том, на каком именно месте находилась вилла Горация, и посвятил этому вопросу три толстых тома?[4] Были ли у нас изыскатели, которые бы всю жизнь мучились над исследованием головоломного вопроса: каким образом происходило бы размножение человечества, если бы не было различия полов в человеческом роде? Были ли у нас специалисты по таким предметам, как, например, вопрос о том, на каком году начал седеть Рюрик, сколько было весу в колчане, который приснился Святославу в «Слове о полку Игореве», какой формы, цвета и объема был сосуд, из которого дали напиться пива Илье Муромцу калики перехожие, и т. п.? Не было у нас таких ученых, и некоторые почтенные люди говорят даже с душевным прискорбием, что русская натура вовсе и неспособна к такой учености. Г-н Берви только, в своих исследованиях о том, как в анатомических признаках и химических явлениях уловить дух мира, подходит к такому идеалу учености. Но, к сожалению, фамилия г. Берви показывает, что и его не совсем можно причислить к семье ученых русских…[5] И выйдет, по надлежащем исследовании, что действительно, кроме библиографов, у нас истинных ученых нет и не бывало. Даже и те случаи, когда человек, занимающийся каким-нибудь предметом, вдруг является ученым, и эти случаи, – все до единого, – сводятся к библиографии. Человек забрасывает вас фактами, открытиями, глубокими соображениями; вы думаете, что он в самом деле изучал свой предмет, как он есть, живьем, что он сам думал о нем и вывел свои заключения на основании общих законов, им же самим если не открытых, то по крайней мере усвоенных, обдуманных, проверенных… Ничего не бывало: в конце концов оказывается, что он только знает литературу своего предмета, – иначе сказать: в библиографии угобзился зело… Далее этого русские ученые (собственно, так называемые) не простираются… Мы могли бы представить сотни доказательств и примеров; да только – зачем же доказывать то, что каждый день у всякого пред глазами?..
Зато библиография вполне удовлетворяет у нас самым взыскательным требованиям (если не упоминать о «Библиографических записках»,[6] в которых она иногда сбивается с своего пути). Библиографы русские успели возвыситься до того научного величия, при котором мелки и ничтожны становятся обыденные интересы простых смертных. Библиограф русский, принимаясь за свой труд, отрешается от всего житейского; для него исчезают пространство и время, звания, полы, возрасты, все различия предметов; он носится в библиографических сферах, видя перед собою только буквы, страницы, опечатки, оглавления и не различая ничего более. Примеры и результаты подобной аскетической преданности своей науке и отрешенности от всего земного поистине достойны благоговейного изумления. Когда при вас говорят, например, о Гоголе, то вам приходят на ум прежде всего «Мертвые души» и «Ревизор», оттого что вы преимущественно к этим его произведениям привязываете разные литературные и общественные интересы. Для библиографа никаких интересов подобного рода не существует! Для него важна его наука, требующая указания страниц, года, формата и т. п. Библиограф погрешил бы против своей науки, если бы «Мертвым душам» отдал преимущество пред «Развязкой Ревизора» или «Перепиской». Он совершил бы страшное преступление, если бы «Мертвые души» предпочел «Гансу Кюхельгартену». Помилуйте – что за невидаль «Мертвые души»! А «Ганс» – библиографическая редкость… И так тверда у библиографов эта точка зрения, что один из них, составляя список сочинений Гоголя, действительно