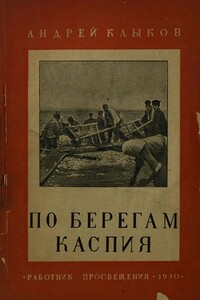Море шумит. Сине-зеленые волны наваливаются на песок. Одна за другой. Большие, холодные однообразно идут на приступ. Белесый туман поднялся к небу, где темнеют тучи. Ветер с силой толкает в грудь. Холодно, и не серится, — что апрель, что стоишь на дагестанском берегу, где надо быть теплу и яркому солнцу.
Дождя нет, но сырость обволакивает спину, руки, лицо.
— Весна нынче запоздалая, — сочувственно об’ясняет мой новый знакомый, монтер Ракаев.
— Зима была холодная и снежная. Бывает так. Рассказывают, что в 1897 году такая же зима была. Откапывали друг друга в домах в Дербенте и здесь на рыбных промыслах тоже.
Ракаев из Баку, работает «на этом берегу» давно, а сюда приехал устанавливать двигатели на электрических станциях, обслуживающих рыбные промыслы. Ракаеву лет под пятьдесят. Он с тринадцати лет был «брошен на завод». Держится просто, но с достоинством, как бы чувствуя, что он первый слесарь, который попал на промысел где до него машиной и не пахло, а все делалось горбом и руками рабочих.
Идем по берегу. Справа ревет море. Впереди уходит на север песчаная черта берега.
В два параллельных ряда белеют постройки.
Это рыболовный лабаз, в котором помещаются чаны или лари, вкопанные почти доверху в песок, за ними контора и дома для рабочих.
Налево песчаный вал — бывший берег отступившего Каспия. А за валом ровная степь, которую сжали дагестанские горы, вершинами ушедшие сейчас в белый туман.
Берег голый. Птице не на что сесть, да их и не видно. Только изредка слышится за туманом крик чайки с моря.
К нам подходит коренастый мужчина в высокой шапке, сапогах и стеганом пиджаке. Это Михал Михалыч, заведующий группой рыбных промыслов.
— Ловите сегодня? — спрашиваю я.
Какой тут, — накат и течение! Пробовали заметать невод, так чуть на камни не нанесло.
«Накатом» здесь называют прибой от сильного ветра, который производит течение воды вдоль берега с севера на юг или обратно.
— А давно дует?
— Третьи сутки и все норд и норд[1]. Пора бы и на ост зайти, — с досадой отвечает Михал Михалыч.
— Эх, пропадет путина[2]! В прошлом году в это время я уже сорок чанов сельди посолил, а нынче и полчана нет.
Он поворачивается спиной к ветру, поднимает плечи и, с'ежившись, старается закурить папиросу.
Его смуглое, обветренное лицо напряжено. Три-четыре спички, вспыхнув, потухают, но, наконец, вылетает белый дымок.
— Чего тут мерзнуть? Пойдемте ко мне, согреемся чайком. Делать здесь нечего, а я как встал в два часа, так и домой еще не заходил.
Идем к нему.
— В нашем деле самая лучшая тоня[3] на рассвете, когда сельдь подходит к берегу. Да вот еще на вечерней заре, а днем ее мало.
— Ночью совсем не тянете?
— Тянем иногда, но ночью она отходит вглубь.
— А вот на бакинских и ночью ловя г. — вставляет Ракаев.
— Это как бывает, — почему-то недовольным голосом отвечает Михал Михалыч, — разные сельди, и год на год не приходится, какая путина.
— Путина — это как бы период, — не то спрашивая, не то об’ясняя мне, замечает Ракаев.
Подходим к дому; Ракаев останавливается; видимо, он не считает для себя удобным пить чай в рабочее время и, обращаясь к заведующему, спрашивает:
— Михал Михалыч, сегодня в Дербент будете лошадь посылать?
— А тебе зачем?
Насчет поршня, ведь задрали цилиндр. Я ребятам хоть не мое это дело, говорил: надо быстро расточку сделать. А здесь ни инструмента у них, ничего.
— Заходите, — пропускает меня Михал Михалыч, — пускай посылают, но дороже трехсот за расточку не заплачу.
Мы входим. Обстановка походная, хотя заведующий живет на промысле круглый год и, кажется, служит здесь несколько лет. Табуретка, два стула, деревянный стол, вроде кухонного, покрытый клеенкой, на стене барометр и в углу покривившийся фикус.
На вешалке пиджак, бумазейная рубаха и кожан.
В открытую дверь соседней комнаты виднеется громадная кровать с горой подушек в ситцевых наволочках. Кто-то, очевидно хозяйка, ворочается и вздыхает.
— Пожалуйте сюда. — Он смахивает с клеенки крошки, переставляет большой бинокль со стола на окно и пододвигает табуретку. Снимаю шапку, пальто и сажусь около окна, напротив хозяина.
— Чаю-то даешь?
— Даю, даю, — послышался голос.
— Вы первый раз здесь? — обратился ко мне хозяин.
— Первый.
— Если б не сельдь, на этом берегу делать нечего. Песок, летом жара, а зимой холод.
— А давно стали ловить рыбу?
— Да ведь как сказать, — он сдвинул на затылок папаху и посмотрел в окно, — рыба тут спокон века водилась, только лов был одна ненормальность. Ловили горцы для себя сетями. Некуда ее было девать, к нам в Россию им не рука была отправлять — воевали тогда они с нами, — это я говорю про шестидесятые годы. Да и ватаг[4] тогда не было, ведь первые промысла здесь появились в 1885 году. Отец покойник, рассказывал мне, как построились промысла в Петровском и Дербенте. Сельдь тогда, можно сказать, губили; солили только крупную, — мелкую, пузанка по-здешнему, продавали по копенке за сотню, а остальную зарывали!
Полная пожилая женщина внесла на подносе два стакана крепкого чая, вазочку с мелко наколотыми кусочками сахара, хлеб и яйца.
Молча поставив поднос, она ушла.
— Кушайте, — он пододвинул стакан, сильно ударил яйцом по столу и, очищая его, продолжал: