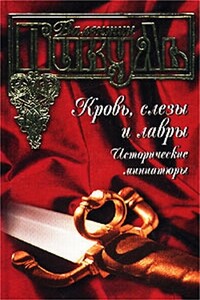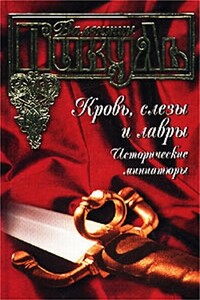Отец мой был царем и сыном царей. Был он невысок, как и большинство из нас, и сложен по-бычьи, одни плечи. Он взял в жены мою мать, когда ей было четырнадцать и жрицы поклялись, что она зрела достаточно, чтоб иметь потомство. Удачный выбор: она единственный ребенок, все владение ее отца достанется ее мужу.
Он до самой свадьбы не знал, что она — дурочка. Ее отец тщательно прятал ее под покрывалом до самого часа обряда, и мой отец все над этим посмеивался. Будь она и уродиной, всегда ведь оставались служанки и мальчики-слуги. Когда, наконец, покрывало было снято, моя мать, рассказывали, улыбалась. Вот так и поняли, что она очень глупа. Невесты-то обычно не улыбаются.
Когда родился я, мальчик, отец вырвал меня из ее рук и передал няньке. Из жалости повитуха дала моей матери держать вместо меня подушку. Мать прижала подушку к себе. Кажется, она не заметила подмены.
Очень скоро во мне разочаровались — маленький, хрупкий. Я не был быстроног, не был силен, не умел петь. Лучшее, что можно было сказать обо мне — я не был подвержен болезням. Простуды и колики, постигавшие моих сверстников, обходили меня стороной. Только это и настораживало отца. Не подменыш ли я, нечеловеческое дитя? Он супил брови, наблюдая за мной. Руки мои дрожали, когда я ощущал его взгляд. И была еще мать, у которой вечно вино проливалось из полуоткрытого рта.
* * *
Мне пять лет; наступает черед моего отца устраивать игры. Люди собираются даже из самих Фессалии и Спарты, и наши хранилища полнятся их золотом. Сотни слуг двадцать дней трудятся, утаптывая дорожки для бегов и очищая их от камней. Мой отец решил устроить лучшие игры своего времени.
Я помню соревнования бегунов, блестящие от масла тела цвета ореха, потягивающиеся, разминаясь, на дорожке для бегов под лучами солнца. Все вместе, вперемешку — широкоплечие мужи, безбородые юнцы и мальчики; мускулистые сильные икры.
Был убит бык, пролив свою кровь в пыль и в чаши темной бронзы. Он шел к смерти спокойно — хорошее предзнаменование для предстоящих игр.
Бегуны собирались перед помостом, где сидели отец и я в окружении тех наград, которые должны быть розданы победителям. Там были золотые чаши для смешивания вина и воды, чеканные бронзовые треножники, ясеневые копья с наконечниками из лучшего железа. Однако настоящую награду я держал в руках — венок из серо-зеленых листьев, свежесрезанных и отполированных до блеска моими пальцами. Отец неохотно дал мне его. Он успокаивал себя тем, что все, что мне нужно с ним делать — это держать венок.
Самым младшим мальчикам бежать первыми, и они, шаркая ногами по песку, ждут знака жреца. Они едва начали расти, вытягиваться, кости длинны и тонки, резко выделяются под упругой кожей. Мой взгляд останавливает светловолосая головка среди дюжин темных взъерошенных макушек. Подаюсь вперед, чтоб разглядеть получше. Волосы медово отблескивают в солнечных лучах, и в них мерцает золото — тонкий венец царевича.
Он ниже остальных и еще сохраняет детскую округлость, тогда как другие ее уже переросли. Волосы его длинны и схвачены кожаным шнуром, они светятся на темной от загара коже его спины. Лицо его, когда он поворачивается, серьезно как у взрослого мужа.
Когда жрец ударяет посохом в землю, он проскальзывает сквозь густую толпу старших мальчишек. Он двигается легко, его пятки сверкают ярко-розовым, как язычки. Он побеждает.
Я гляжу, как отец берет венок с моих колен и увенчивает его; листья кажутся почти черными на его золотых волосах. За ним приходит его отец, Пелей, улыбающийся и гордый. Царство у Пелея меньше нашего, но поговаривают, что его жена богиня, и его народ любит его. Мой же отец поглядывает на Пелея с завистью. Жена у него дурочка, а сын слишком медлителен, чтоб бежать даже с самыми младшими. Отец поворачивается ко мне.
— Вот каким должно быть сыну.
Мои руки кажутся опустевшими без венка. Я смотрю, как царь Пелей обнимает сына. Я вижу, как мальчик подбрасывает венок и ловит его. Он смеется, и его лицо светится радостью победы.
* * *
Кроме этого, моя тогдашняя жизнь вспоминается лишь урывками — отец, сурово хмурящийся на троне, затейливо вырезанная игрушечная лошадка, которая мне нравится, моя мать на берегу, глядящая на Эгейское море. В этом последнем воспоминании я швыряю для нее камешки, они прыгают, — «плюх-плюх-плюх», — по глади моря. Ей, кажется, нравится смотреть, как рябь рассасывается, возвращаясь в морскую гладь. А может, ей нравится само море. На ее виске звездчатое пятно, белое как кость — шрам, ее отец ударил ее когда-то рукоятью меча. Пальцы ее ног торчат из-под песка, куда она их закапывает, и я стараюсь не задеть их, когда разыскиваю камешки. Выбираю один и с силой пускаю, радуясь, что уж это-то мне удается. Это мое единственное воспоминание о матери, столь прекрасное, что я почти уверен — я сам его придумал. И в самом деле, не похоже, чтобы мой отец позволил нам побыть наедине, дураку сыну с дурочкой женой. И где это мы были? Я не могу опознать того побережья, линии берега. Много чего случилось с тех пор.