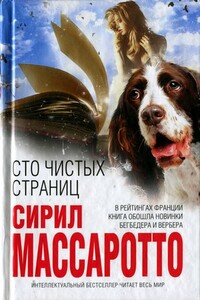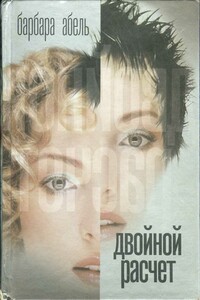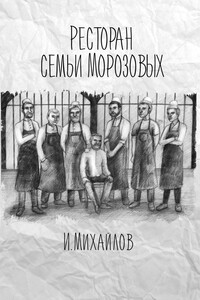Томб, через три года после дня А
— Здравствуй, мама.
— Вы кто?
Так рухнул мой мир: одна-единственная фраза — и я стал первым, кого она забыла.
Мадлен, в день А
В тот день я выходила из супермаркета. День как день, ничего особенного, надо было прикупить кое-чего на выходные: овощей, не био, а самых обыкновенных; еще курицу, помидоров. (Томб с того самого дня, как узнал это в школе, все твердил мне: «Мама, помидор — это фрукт, да-да, фрукт, честное слово!», и с тех пор, составляя список покупок, я никогда больше не записывала помидоры в овощи.) Еще я взяла несколько бананов и сеточку яблок. Но главное — на дне моей «экологической» сумки звякали, ударяясь одна о другую, две бутылки канадского кленового сиропа — для десерта. Мои ребятки — все трое — так любят поливать этим сладким тягучим ликером фруктовый салат! Это уже стало семейной традицией: когда они приходят все вместе на обед, в воскресенье или по случаю какого-нибудь праздника, они всегда получают по большому салатнику, где несколько кусочков фруктов плавают в целом море сиропа.
Сласти творят чудеса: благодаря им любой взрослый превращается в ребенка.
Когда я вышла через главные двери, те, что находятся напротив кассы номер двадцать шесть — мое счастливое число, день моей свадьбы, — я вдруг забыла, куда поставила машину. В последние годы такое случалось со мной нередко, я то и дело забывала, где моя машина, в каком ряду я ее поставила. Я всегда была такой, это у меня, конечно, от мамы, которая вечно все забывала, путала имена и даты, теряла ключи; отец называл ее растеряшкой, и я в детстве долго думала, что растеряшка — это такая мышка, не знаю почему, просто мне так казалось из-за названия. Но все, что забывалось, обычно вспоминалось снова — стоило только немного сосредоточиться. Так где же я ее все-таки оставила эту машину? Справа, рядом с большим навесом для тележек, или все же левее, около мест для инвалидов? Мне никак было не вспомнить. Терпение, не будем волноваться, решила я: через минутку, нет, через полминутки я все вспомню.
Как всегда.
Минутка оказалась долгой; не одну, а две или три минуты — вот сколько она продлилась. Терпение мне не помогло: я ничего не вспомнила. Я не стала нервничать, а решила прогуляться туда-сюда по паркингу: так я точно рано или поздно наткнусь на свою машину. Я пошла вдоль первого правого ряда и вдруг в ужасе остановилась: я поняла, что главная моя беда была не в том, что я забыла, куда поставила свою машину. Нет, самое страшное было, что я не помнила, какую машину искать, — маленькую красную или большую синюю.
Вот так рухнул в тот день мой мир; я стала маразматичкой.
Томб, через три года после дня А
— Мама, это же я! Томб!
— Томб… Конечно… Томб… Э-э-э… вы… э-э-э… Нет, я вас не знаю.
Почему? Почему она меня забыла? Почему именно меня? Конечно, мы знали, что это случится, знали с самого начала, с того момента, когда медицина в лице маленького чернявого толстячка с короткими ручками услужливо объяснила нам, что все будет очень тяжело и не только для нашей бедной мамы, но и для нас, что процесс необратим; мы про все это знали — про деградацию, про разные стадии развития процесса, про постепенную потерю самостоятельности; мы знали все эти дикие термины: агнозия, апраксия, афазия и ожидаемая продолжительность жизни.
Нет ничего противоречивее, чем это выражение — «ожидаемая продолжительность жизни»: ведь когда вам говорят такое, это означает, что ждать-то больше и нечего, впереди только смерть, и единственное, на что можно еще надеяться, чего ожидать, — что она не будет ни слишком медленной, ни слишком мучительной.
Все это было известно, мне известно, и я принял это, — у меня не было выбора. Да, принял, но не на таких же условиях! Чтобы стать первым, кого она забыла!
Как вообще такое могло случиться? Не может она меня забыть! Меня!..
— Ладно, посмотри немного телевизор, потом тебе станет лучше, и ты узнаешь меня — конечно же, узнаешь.
— Который час?
— Девять утра, мама. Я на ночь уезжал к себе. Ты спала?
— Не знаю.
— Ну, ты же помнишь: вчера вечером я был тут, с тобой, а сегодня утром приехал опять, как всегда! Погоди, я зашел в аптеку за твоими лекарствами.
— Ой, вы будете делать мне укол?
— Укол? Какой укол?
— Откуда я знаю! Дайте мне, пожалуйста, посмотреть телевизор.
И тут меня словно ударило — прямо в сердце: ведь с самого моего прихода она называет меня на «вы»! Моя мама говорит мне «вы». Вчера вечером я был Томб, ее сынок, а утром она мне выкает. Как такое могло получиться: чтобы за одну ночь я начисто исчез из ее головы?
Это не я, это она только что сделала мне укол — больно кольнула своей забывчивостью. Такое чувство, что она вонзила мне иглу между глаз — страшно больно; я таращусь, чтобы как-то перетерпеть боль, которая как будто стекает по щекам.
— Ну, мама, я же не доктор! Посмотри на меня. Дай сюда пульт, я убавлю звук. Посмотри на меня. Ты узнаешь меня, а, мам? Я не делаю уколов, я твой сын, Томб, ты же знаешь, — твой любимчик! Ладно, шучу, ты нас всех троих любишь одинаково, да? Твоих ребятишек! Скажи, ты их одинаково любишь, твоих ребят? Расскажи-ка мне о детях, всё и вспомнится.