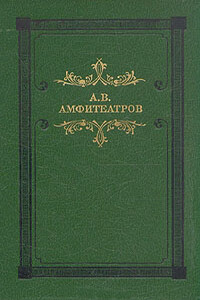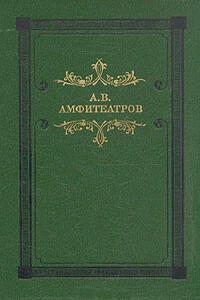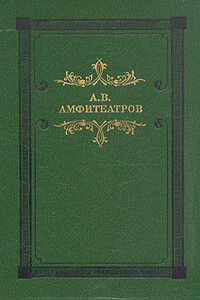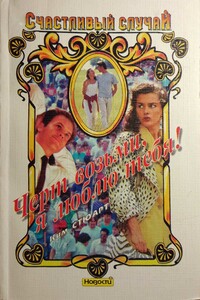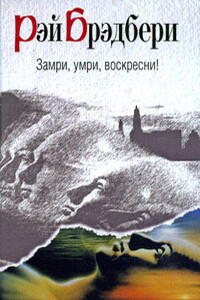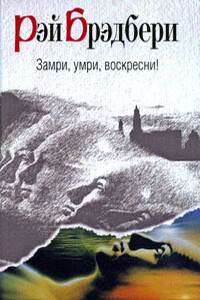Разсказъ мой начинается съ того самаго момента, какъ Марья Сергѣевна дала пощечину своему супругу Алексѣю Трофимовичу. Вслѣдъ затѣмъ она упала въ кресло, взвизгнула, захохотала, заплакала, заболтала ногами и вообще продѣлала все то, что прилично продѣлать благовоспитанной дамѣ, чувства которой оскорблены до необходимости впасть въ истерику. Алексѣй Трофимовичъ стоялъ съ видомъ полнаго недоумѣнія и, почесывая рукой ушибленное мѣсто, шепталъ:
— Но… но… однако… какіе-же прецеденты?!
Онъ припомнилъ: полчаса тому назадъ, онъ вернулся изъ должности въ самомъ благодушномъ настроеніи; Марья Сергѣевна встрѣтила его спокойно, хотя нѣсколько надувшись. На всякое чиханье не наздравствуешься; а потому Алексѣй Трофимовичъ, подаривъ настроенію супруги улыбку состраданія и два-три прочувствованныхъ слова — для приличія, а въ сущности — нуль вниманія, прошелъ къ шкафчику, вонзилъ въ себя двѣ рюмки англійской горькой, закусилъ бѣлорыбицей съ хрѣномъ и пришелъ въ еще лучшее расположеніе духа. Въ ожиданіи обѣда онъ журавлинымъ шагомъ промаршировалъ черезъ всю свою небольшую квартирку, необыкновенно граціозно переступая на носкахъ изъ одной паркетной клѣтки въ другую и довольно похоже наигрывая на губахъ маршъ изъ «Карменъ». Потомъ подошелъ къ окну и на запотѣвшемъ стеклѣ не безъ удовольствія расчеркнулся: Фазановъ… А. Фазановъ… Алексѣй Фазановъ… Симъ и заканчивается рядъ «прецедентовъ», если не относить къ нему «козу рогатую», которою счастливый Алексѣй Трофимовичъ во внезапномъ приливѣ супружеской нѣжности угостилъ Марью Сергѣевну. Въ отвѣтъ на козу и раздалась пресловутая пощечина… первая пощечина за три года супружества!
Марья Сергѣевна была удивлена своимъ поступкомъ не меньше самого Алексѣя Трофимовича и теперь, визжа и коверкаясь въ креслахъ, думала про себя «за что, бишь, это его я» и никакъ не могла сообразить; одно только знала она твердо и ясно, что Алексѣй Трофимовичъ, такъ или иначе, но виноватъ, ужасно виноватъ, и что, какъ скоро уже дана пощечина, то, значить, ее и слѣдовало дать. Впрочемъ, начну со вчерашняго дня…
Марья Сергѣевна проснулась довольно поздно. Вчера супруги были на вечеринкѣ у Пуликовыхъ, и на этой мерзкой толстухѣ Вавиловой было такое чудное платье изъ фая. Это платье всю ночь плясало передъ взволнованными глазами Марьи Сергѣевны: оно было какъ живое и то развивалось буфами и воланами, то съеживалось подъ скромной, но изящной отдѣлкой плиссе, то величественно влачилось по полу, шурша саженнымъ трэномъ, — то, теряя трэнъ, пріобрѣтало видъ нѣсколько куцый и легкомысленный, но до послѣдней возможности модный… ахъ, какой модный!
Благодаря ночнымъ грезамъ, Марья Сергѣевна, какъ только подняла съ подушекъ отяжелѣвшую головку, такъ и сказала сейчасъ-же:
— Господи! какая я несчастная!
И, бросивъ взглядъ на ситцевую, уже потрепавшуюся обстановку своей спальни, и на окна, въ которыя во всѣ свои сѣрые глаза смотрѣлъ кислый туманный день, убѣдилась, что она точно несчастная; а вошедшая въ это время кухарка Клавдія не менѣе справедливо заключила, что барыня встала съ постели лѣвой ногой, такъ какъ на невинный свой вопросъ:
— Барыня, прикажете купить къ обѣду соленыхъ огурцовъ? — получила довольно непослѣдовательный отвѣтъ:
— Ахъ, отстань, ради Бога! дайте мнѣ хоть умереть спокойно!!
Тогда Клавдія мысленно констатировала фактъ, что «нынче на барынѣ черти ѣдутъ», и стала резонно докладывать, что смерть — сама по себѣ, а огурцы — сами по себѣ, потому баринъ изъ службы придутъ и ругаться будутъ. Барыня испустила глубокій вздохъ и, съ видомъ Ніобеи, лишающейся послѣдняго изъ чадъ своихъ, «дала Клавдіи злато и прокляла ее».
Марья Сергѣевна не слишкомъ обременена занятіями: въ кухню она не заглядываетъ, основательно заходя, что тамъ слишкомъ дурно пахнетъ; дѣтей у Фазановыхъ нѣтъ, читать она не охотница… Играть на піанино? — инструментъ разстроенъ до неприличія.
— Вѣдь, говорила я противному Алешкѣ, чтобы позвалъ настройщика!
Разговоръ объ этомъ происходилъ съ мѣсяцъ тому назадъ, а вотъ и до сихъ поръ не принесъ практическихъ результатовъ. Ахъ, тяжело имѣть неисполнительнаго супруга! Марья Сергѣевна погрузилась въ печальныя размышленія на эту привлекательную тему и, перечисляя рядъ супружескихъ промаховъ, скоро пришла къ вопросу: купилъ ли бы Алексѣй Трофимовичъ, если-бы она попросила, ей платье, какъ у Вавиловой? Она, конечно, не попроситъ, — она благоразумна, не мотовка и знаетъ, что при полуторастахъ рубляхъ мѣсячнаго жалованья нельзя дѣлать такихъ туалетовъ, да у ней еще и розовое сюра довольно сносно, — но… если бы! Да нѣтъ! не купитъ! ни за что не купитъ! Замахаетъ руками и закричитъ, какъ въ прошломъ году изъ-за стекляруснаго тюника:
— Что ты, матушка! Въ умѣ ли? при нашихъ ли капиталахъ? Тутъ дай Богъ обернуться: за квартиру заплатить, матери послать — а ты: фаевое платье!
— Тогда, — думала Марья Сергѣевна, — я сказала ему: «если вы не въ состояніи сдѣлать женѣ тюникъ, зачѣмъ же женились?…» И въ самомъ дѣлѣ: зачѣмъ онъ женился? Больше: какъ онъ, полутораста-рублевый труженикъ, смѣлъ жениться на ней, у ногъ которой умирали князь Тугоуховскій, баронъ Пимперле и концессіонеръ Ландышевъ? Правда, князь Тугоуховскій сильно смахивалъ своей наружностью на ходячіе песочные часы, у барона Пимперле были какія-то странныя пѣжины на красномъ лицѣ и препротивно терчали уши, Ландышевъ даже ради объясненія въ любви не могъ вытрезвиться, а Алексѣй Трофимовичъ щеголялъ тогда такой славной русой бородой и такимъ красивымъ сочнымъ голосомъ декламировалъ стихи Надсона! Да, вѣдь, не съ бородой и не съ Надсономъ жить, а съ человѣкомъ!