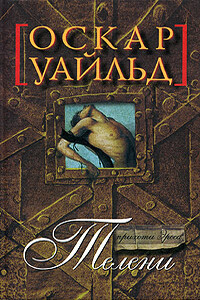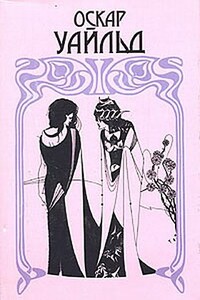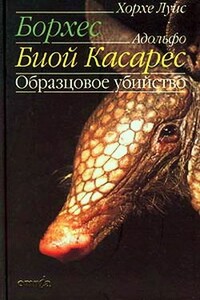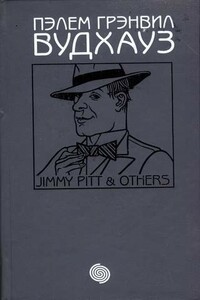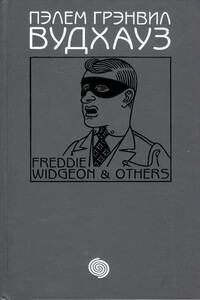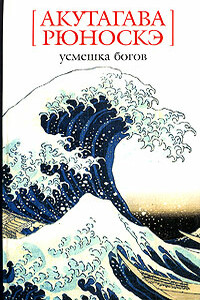Перо, полотно и отрава
Этюд в зеленых тонах
Художников и писателей вечно упрекают в том, что им недостает цельности натуры и полного ее развития. Чаще всего так и должно быть. Та сосредоточенность восприятия и неуклонность движения к цели, которые составляют столь характерное свойство артистического темперамента, сами по себе становятся ограничивающими факторами. Человеку, поглощенному красотой форм, все прочее кажется несущественным. Но это правило знает многие исключения. Рубенс служил посланником, а Гете состоял государственным советником, Мильтон же был секретарем у Кромвеля и писал за него бумаги по-латыни. Софокл тоже занимал гражданскую должность в своем городе; сегодняшние американские юмористы, эссеисты, новеллисты, кажется, ни о чем не мечтают столь страстно, как о должности в дипломатических представительствах; а Томас Гриффите Уэйнрайт, приятель Чарлза Лэма, о котором тот написал небольшой мемуарный очерк, при всей яркости своего артистического дарования также посвящал себя не одному искусству, но многому другому: он был не только поэт, живописец, художественный критик, собиратель предметов старины и прозаик, не только любитель разных замечательных вещей, он еще и подделывал бумаги, отличаясь всеми нужными для этого талантами, а уж на поприще отравителя, умеющего действовать изощренно и заметать за собой следы, его вряд ли кто превзошел что в его эпоху, что в любую прочую.
Этот выдающийся человек, который, по тонкому наблюдению нынешнего знаменитого поэта, был непревзойден, когда в дело шли «перо, полотно и отрава», родился в 1794 году в Чисуике. Дедом его был видный стряпчий, державший контору в Грейз-инн у Хаттон-Гарден. Другой дед, по матери, — не кто иной, как прославленный доктор Гриффитс, основатель и редактор «Мансли ревью», а также партнер в другом литературном начинании Томаса
Дэвиса, того всем известного книгопродавца, о котором Джонсон сказал, что это не книгопродавец, но «джентльмен, посвятивший себя книгам», — друга Голдсмита и Уэджвуда, словом, одного из наиболее почитаемых людей своего времени. Миссис Уэйнрайт умерла при родах совсем молодой — Томас появился на свет, когда ей был всего двадцать один год; некролог, помещенный в «Джентльмене мэгэзин», сообщает нам о ее «располагающем к себе нраве и многих достоинствах», добавляя, хотя звучит это странновато, что «она, как считают, понимала писания господина Локка не хуже любого из ныне живущих представителей обоих полов». Отец Томаса не намного пережил свою младую супругу, и ребенка, очевидно, растил дед, а по смерти последнего в 1803 году заботы о Томасе принял на себя его дядя Джордж Эдвард Гриффитс, которого тот впоследствии отравил. Детство его прошло в Линден-Хаус, Тернем Грин — одном из прелестных георгианских особняков, тех, что, увы, исчезли, когда подрядчики принялись прокладывать дороги через предместья; тамошнему живописному саду и парку, переходящему в лес, обязан он своей неподдельной, страстной любовью к природе, пронесенной через всю жизнь, отчего он и оказался особенно восприимчивым к духовному влиянию поэзии Вордсворта. Его послали в школу Чарлза Берни в Хэммерсмите. Мистер Берни был сыном историка музыки и приходился близким родственником того артистически одаренного подростка, который окажется самым знаменитым из всех его учеников. Видимо, это был человек высокой культуры, и Уэйнрайт впоследствии часто отзывался о нем с большой теплотой, ценя в нем философа, археолога и замечательного педагога, который, отдавая должное важности развивать при обучении интеллект, не забывал, сколь существенно и моральное воспитание, привитое с юности. Под опекой мистера Берни впервые пробудился в нем талант художника; Хэзлит пишет, что альбом, который он заполнял рисунками на школьной скамье, сохранился — он свидетельствует о явном даровании и естественности чувства. Живопись стала его притягивать ранее всех иных искусств. Лишь много позднее он попробовал выразить себя при помощи стихов и ядов.
Но еще прежде он, очевидно, поддался мальчишеским романтичным представлениям о рыцарском благородстве солдатской службы, став юным гвардейцем. Впрочем, безудержная и рассеянная жизнь, в которую погрузились его товарищи, не отвечала изысканной артистической натуре Томаса, созданного для иных занятий.
Служба вскорости наскучила ему. Какая искренность, какой необычайный пыл в этом его признании, которое многих растрогает и ныне: «Искусство вернуло себе своего отступника; чистым и высоким его прикосновением рассеялись туманы и умолк докучный шум; чувства мои, иссушенные, поблекшие и вянущие, вновь обрели свежесть утренней прохлады, началось их новое цветение простое и прекрасное для тех, кто прост сердцем». Однако не одно лишь Искусство было причиной свершившейся перемены. «Стихи Вордсворта, — пишет он далее, — ощутимо помогали успокоению смуты и маеты, по неизбежности сопутствующих внезапным переменам судьбы. Я плакал над этой поэзией слезами счастья и благодарности». И вот он оставляет армию с ее грубым казарменным распорядком и пересыпанной скабрезностями болтовней за обедом; он возвращается в Линден-Хаус, полный вновь им обретенного энтузиазма почитателя культуры. Тут Томаса подстерегает тяжелая болезнь, по собственным его словам, «обратив его в потрескавшийся глиняный горшок» и заставив некоторое время провести без движения. От рождения хрупкий и изящный, он был безразличен к боли, причиняемой другим, но сам страдал от нее ужасно. Страдание он ненавидел, оттого что оно уродует жизнь, лишая ее цельности, и ему пришлось постранствовать по гнетущим долам меланхолии, откуда не смогли вернуться столь многие великие души — возможно, более великие, нежели его собственная. Правда, он был молод — ему исполнилось всего двадцать пять лет, — и, одолев, как он выразился, «мертвые черные волны», он снова вдохнул щедрого воздуха культуры, согретой гуманностью. Оправляясь от недуга, который чуть не заставил его переступить земной предел, он проникся мыслью о служении литературе, сему высокому искусству. «Вслед Джону Вудвиллу, — с восторженностью повествует он, — я воскликнул: божественно ощутить, что ты принадлежишь этой стихии», и все на свете научиться видеть, и слышать, и запечатлевать с отвагой, ведь