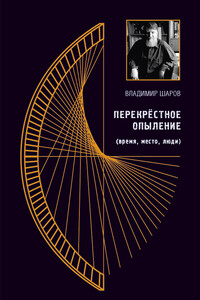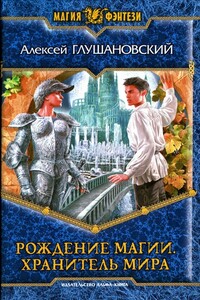Первая публикация в журнале «Знамя» № 10 за 2010 г.
Общее место, что теми, кто мы есть, нас делает генетика и контекст. Его, прорастая друг в друга, на равных строят время, в которое живешь, территория, на которой обитаешь, и люди, в орбите которых повезло оказаться. Генетику оставим в стороне, я о ней мало что знаю. В эссе и зарисовках, составивших эту книгу, речь пойдет о людях, среди которых я жил и живу до сегодняшнего дня. Все это важно для меня еще и потому, что, переболев довольно серьезной болезнью, я понял, что откладывать оплату многих долгов не вправе.
Начну с отца, с цикла коротких зарисовок под общей шапкой «Когда Шера в форме». Но сначала нечто вроде предисловия. По ряду причин – речь о них еще пойдет – высшее образование я получил в Воронеже, где студентом-заочником за шесть лет окончил исторический факультет местного университета. В советское время, не знаю, как сейчас, заочное образование было в полном смысле синекурой. Кроме не слишком обременительных контрольных и курсовых работ, я должен был ездить в Воронеж на две сессии: зимнюю – десять дней, и летнюю – три недели, за которые, прослушав пару лекций, посетив несколько семинаров, сдавал несчетное число экзаменов и зачетов, после чего отбывал обратно в Москву. Режим, как ни посмотри, щадящий. Но толику знаний благодаря книгам и, конечно, отцу, похоже, я все-таки унес в клюве.
С отцом с моих тринадцати-четырнадцати лет мы, в общем, читали одни и те же книги – сначала он, потом я. Полки пополнялись или «Книжной лавкой писателей», или самиздатом (вторая половина шестидесятых-семидесятые годы – как раз его расцвет). Многое я читал сразу вслед за отцом, то есть безо всякого зазора, а дальше шло само собой. Мы ни о чем не уславливались и не договаривались, упаси боже, ни к чему не готовились. Сплошь и рядом ни он, ни я даже не хотели этого разговора – понимали, что еще не пришло время – прочитать-то ты прочитал, но не переварил, по-настоящему, бывало, и не распробовал, но оба были азартны, неуступчивы, оттого яростный спор мог возникнуть из ничего, что называется, слово за слово. Чтобы его вести, хотя бы отчасти быть с отцом на равных, требовалась недюжинная реакция, умение мыслить на ходу, теперь знаю, что это называют артикуляционным мышлением, потому что направление спора менялось – рвалось и начиналось заново каждой репликой. Не убежден, что в наших перепалках рождалась истина, но что из слов отца, а иногда и из собственных, я узнавал бездну нового, того, что прежде в голову не приходило, как и то, что все это научило меня думать, несомненно.
В этих спорах мы выкладывались по полной, оттого некоторые из них выходили очень ожесточенными, даже могли окончиться ссорой, правда, стоило отцу уйти к себе в комнату, все успокаивалось. Как я теперь понимаю, масла в огонь добавляло различие в наших идеологических воззрениях. Отец, с начала и до конца пройдя войну, как ушел на фронт, так и вернулся, по терминологии тех лет, «абстрактным гуманистом». Он (впрочем, тут я глядел на вещи так же) не признавал, что цель может оправдать средства. Говорил, что никакая и никогда. Больше того, был убежден, что в силе по самой её природе есть червоточина, то есть добра с кулаками не бывает, если с кулаками, то это уже не добро. Потому и у заповеди непротивления злу насилием нет альтернативы, с чем я как человек, не нюхавший пороха, обычно не соглашался. В случае отца все это не было интеллигентским прекраснодушием и мягкотелостью. В 1969 году один из секретарей правления Союза писателей и глава Верховного Совета России тех лет Николай Грибачев, человек очень нехороший, опубликовал в «Известиях» большую статью, где обвинял отца во всех смертных грехах, но главное, в идеологической диверсии. Попытке протащить в наше общество классового гуманизма этот самый гуманизм абстрактный. По тем временам обвинение настолько серьезное, что оргвыводы последовали незамедлительно. Был рассыпан набор двух книг, а еще по трем разорваны договоры. В итоге последние пятнадцать лет жизни отца, если и печатали, то по недосмотру, а так он в основном работал «в стол». Это годы тяжелого мрака. Но каждый счет был оплачен верно, потому что поздняя проза отца и её финальный аккорд, роман «Смерть и воскрешение А.М.Бутова (Происшествие на Новом кладбище)», машинопись которого он получил за три дня до смерти (успел подержать в руках), думаю, лучшее, что он написал.