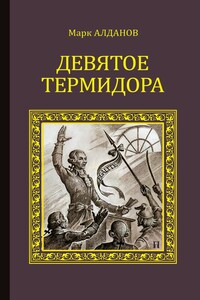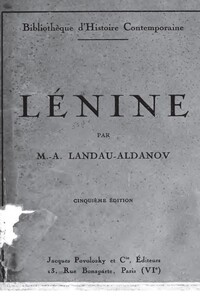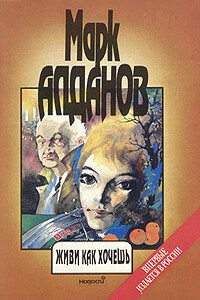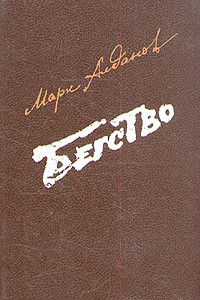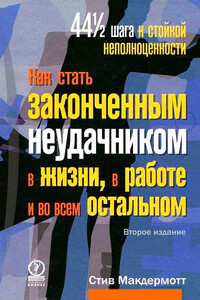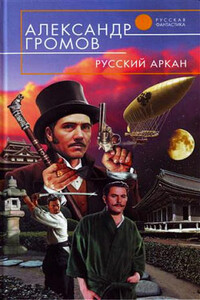Называю так роман Толстого с В.В. Арсеньевой, — называю с некоторым упрощением: он не был «Печоринским» во всем смысле слова; но в нем было немало от лермонтовского Печорина. Выяснился вполне характер этого романа лишь теперь, после появления в полном виде дневников Льва Николаевича за 1854–1857 годы{1}.
Очень многое в Толстом освещается этими дневниками по-новому. Освещается к лучшему или к худшему? Не все ли равно? Всем известно, что величайший писатель был и человеком высокого душевного благородства. Так называемые теневые стороны его характера принадлежат нам по собственной его воле. Они и интересны главным образом потому, что объясняют путь этого столь необыкновенного, ни на кого не похожего человека.
Мы теперь привыкли к тому Толстому, которого еще застали наши поколения, к Толстому доброму, кроткому, просветленному. Разумеется, мы знали, что он не всегда был таким, — и все же дневник Льва Николаевича за 1854–1857 годы вызывает у нас удивление. Правда, это было самое худшее время его жизни. «Я был тогда отвратителен», — писал он на старости. Он был тогда совершенным мизантропом. Это сказывается на каждой странице его дневников. Приведу несколько его отзывов (личные впечатления) о людях — известных нам и неизвестных, близких ему и от него далеких:
«Филимонов, в чьей я батарее, самое сальное создание, которое можно себе представить…» «Генерал — свинья…» «Кригскомиссар — ужасный дурак…» «Ковалевский — сукин сын…» «Сазонова внушила невыразимое отвращение…» «Погодина с наслаждением прибил бы по щекам…» «Полонский смешон…» «Панаев нехорош…» «Писемский гадок…» «Лажечников жалок…» «Граф Блудов — стерва…» «Авдотья (Панаева) — стерва…» «Горчаков гадок ужасно…» «Волков — черт знает что такое…» «Мордвинова — отвратительная, лицемерная либералка…» «Мещерские — отвратительные, тупые, уверенные в своей доброте, озлобленные консерваторы…» — Не привожу отзывов совершенно непечатных.
Разумеется, он так отзывается далеко не обо всех. Есть в дневниках отзывы и добрые и лестные. Но обычно люди, вначале ему нравящиеся, очень скоро вызывают у него скуку и антипатию. Так, он не раз без большого, впрочем, восторга хвалит И.С.Тургенева. Позднее пишет: «Тургенев скучен…» «Увы, он никого никогда не любил…»{2}, «Тургенев — дурной человек…» При первом знакомстве Лев Николаевич был очень увлечен личностью декабриста Пущина (Михаила): «Пущин — прелестный и добродушный человек…» Потом в дневнике встречаются такие записи: «Вечером сидел Пущин и хвастался изо всех сил…» «Счастливый человек Пущин, ему все кажется, что в нем сидит что-то много прекрасного, чего он не может высказать — особенно когда он выпьет. Ежели бы он был умнее, он увидал бы, что все, что сидит — гадость…» Всем известна любовь Толстого к тетушке Ергольской — Соне «Войны и мира». В пору нежных разговоров и переписки с ней он заносит в дневник: «Скверно, что начинаю испытывать тихую ненависть к тетеньке, несмотря на ее любовь. Надо уметь прощать пошлость…»
Почти так же резок он в суждениях о людях церкви. Еще более резок в суждениях о литературе, о больших писателях, которых он лично не знал, которые уже были классическими и в его время: «Читал Пушкина, 2 и 3 часть. «Цыганы» прелестны, как и в первый раз, остальные поэмы, исключая «Онегина», — ужасная дрянь…» «Читал полученные письма Гоголя. Он просто был дрянь человек. Ужасная дрянь…»{3}. О России будущий автор «Войны и мира», только что вернувшись из-за границы, пишет: «Противна Россия. Просто ее не люблю…» «Прелесть Ясная. Хорошо и грустно, но Россия противна…»
Во имя чего же судил он обо всем столь резко и несправедливо? Не понять. В сущности, он был тогда совершенным нигилистом — не в базаровском, а в подлинном смысле слова. После смерти брата он писал в дневнике: «Во время самых похорон пришла мне мысль написать материалистическое евангелие». Тогда же писал Фету: «Правду он (брат Николай) говаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет». Без всякой смерти близкого человека — запись в дневнике от 16 августа 1857 года: «Все кажется вздор. Идеал недостижим, уж я погубил себя. Работа, маленькая репутация, деньги. К чему? Материальное наслаждение тоже к чему? Скоро ночь вечная». В одном из писем к Арсеньевой он вскользь замечает: «Я во всем мире сомневаюсь, исключая, что добро — добро». О «добре» в дневниках говорится много, но весьма неясно. Есть и такая запись — «страннее в 100 000 раз… что мы живем, зачем сами не знаем, что любим добро, и ни над чем не написано: то добро, то худо».
Какие могли быть причины его нигилизма, мизантропии, тоски? Толстой прощался с первой молодостью, — это обычно тяжелое время в жизни человека. Других внешних причин мы не видим. У него как будто было все нужное для счастья. Дневники его полны жалоб на болезни. Мы знаем, однако, что он был в общем вполне здоровый человек и прожил до 82 лет. Выбор карьеры был сделан. «Детство», «Отрочество» уже появились и имели большой, хоть, быть может, не очень шумный успех. Толстой был — и навсегда остался — писателем и для «масс» и для «элиты». Широкая публика тогда, впрочем не слишком еще многочисленная, читала его первые произведения с восторгом. «Со всех сторон от публики сыпались похвалы новому автору», — вспоминает Головачева-Панаева. «Элита» хвалила сдержаннее, но хвалила.