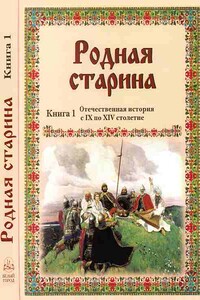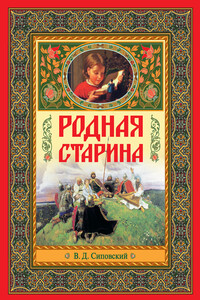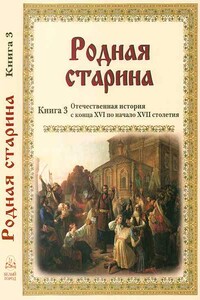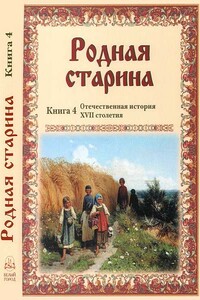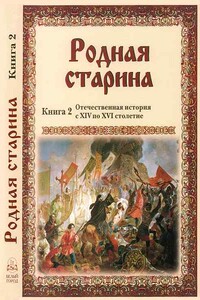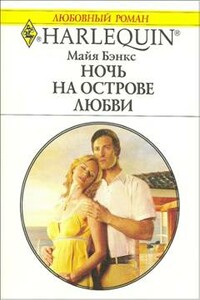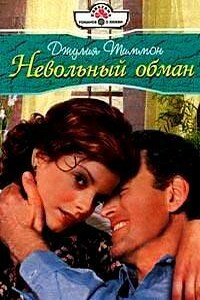Откуда знаем мы наше прошлое
Предания о старине. — Письменные сказания и летописи. — Исследования ученых. — Народные певцы.
Более тысячи лет прошло с той поры, как первый русский князь утвердил свою власть на берегах реки Волхова. Много с той поры до наших дней совершилось крупных дел, и хороших, и дурных; немало за это время бед и горя пережил русский народ; были у него и светлые дни радости; было немало и людей, память о которых дорога всякому русскому сердцу. Есть о чем порассказать, есть что и послушать.
Откуда же нам узнать о том, что было за несколько сот лет до нас? Откуда нам взять сведения о стародавних временах?
Кому не случалось замечать, как любят рассказывать о своем прошлом пожившие на свете, бывалые, видавшие, как говорится, виды, — особенно старики. Рассказывают иной раз они подробно, плавно, спокойно — так хорошо, что можно их заслушаться. Чего только они не припомнят и не порасскажут: много пожили, много и видели. Память у стариков бывает нередко и богата, и торовата. Были бы только охотники слушать их, а за охотою рассказывать дело у них не станет.
Такая охота у старых людей была во все времена. Не будь ее в ту пору, когда у наших предков не было еще грамоты, не много бы мы знали о нашей глубокой старине.
И. Глазунов Боян. Слава предкам!
Рассказывают старики про старое, про бывалое. Слушают стариков дети их да внуки; западают глубоко в память их эти рассказы. Пройдут два-три десятка лет; деды уже сошли в могилу; внуки их и сыновья сами стали отцами и дедами. Рассказывают и они своим детям и о старой дедовской были, и о том, что сами на своем веку видели. Так из рода в род передаются рассказы о недавнем прошлом и о глубокой старине. Называются такие рассказы — преданиями. Века проходят, а предания о старине все живут в памяти народа. А то найдутся в народе и такие досужие да способные люди, что иные сказания и в песни сложат: в песне выходят они и складнее, и помнить их лучше, да и слушать песню приятнее, чем простой рассказ. Много преданий хранится в памяти народа, много и песен о старине поет он. Давным-давно уж нет на свете тех, про кого говорится в песне, даже и от могил их следа уже не осталось, а живая песня все еще говорит про их дела; сотни лет проходят, а горе и радости их все живут в этих песнях. Дороги они народу: родная старина сказывается в них.

В. Васнецов Боян
Да беда в том, что как ни хороша бывает память у старых людей на прошлое, а все-таки всего не удержит: выпадают из нее имена людей, спутывает она события, забывается и время, когда что случилось. Притом и говорится обыкновенно не обо всем, а о том, что ближе к сердцу, что посвежее сохранилось в памяти.
А. Новоскольцев Летописец
Иной рассказчик говорит о чудесном подвиге, о силе необычной какого-нибудь витязя, о событии, да невольно и прикинет от себя словцо-другое или спутает что-нибудь; смотришь — с былью уже и сплелась небылица. Прошел такой рассказ через уста нескольких поколений — предание уже и в сказку обратилось; и трудно уже в ней распознать быль от небылицы. Кроме того, жизнь не стоит: года идут за годами, являются новые люди, совершаются новые дела. У каждого поколения есть свои радости, свои заботы; зарождаются новые предания; новые песни складываются. Чем больше живет народ, тем больше накопляется их; а со временем наберется их столько, что самая крепкая память всего не удержит: они либо смешиваются между собою, либо вытесняются одни другими. Хоть и говорит пословица, что старики сказывают «по старой памяти, как по грамоте», да все память не грамота — всего не удержит. Не много мы знали бы о нашей старине, если бы не явилась грамота в подмогу памяти.
В древности, когда еще предки наши и не думали о том, что можно читать и писать, в нашу страну заходили грамотные иноземцы (арабы, греки и другие); они разносили известия о ней по своим землям; многое из их рассказов было и записано; кое-что сохранилось и до нашего времени. Записки иноземцев много помогают нам узнать наше прошлое.
К предкам же нашим книжное искусство пришло в десятом веке вместе с христианством, и потому первыми грамотными людьми у нас были священники да монахи. Между ними нашлись такие, которые стали записывать известия о событиях в Русской земле. Обыкновенно записывали не подробно и не связно, а делали только небольшие заметки: выставят год и запишут под ним коротко, что случилось в это время; затем следующий год обозначат и под ним сделают короткую запись, а ничего особенного не произошло, то ничего и не запишут, год пустым оставят. Такие короткие записи по годам, иначе сказать, по летам, называют летописями.
Немало у нас было летописцев, но особенно много пришлось потрудиться тому, который составил первую известную нам летопись «Повесть временных лет». Он не только отмечал в ней то, что на его памяти совершилось, но захотелось ему начать с самых древних времен: пришлось ему собирать старые сказания, заимствовать известия из других книг, записывать рассказы стариков. Темное предание о первых князьях, благочестивое сказание о первых христианских подвижниках на Руси, сказочный рассказ бывалого человека о диковинах Русской земли — все дорого для него, все это старательно записывает монах-летописец в свою книгу. Отрекся он от света, заперся в свою тесную келью, гонит он от себя всякие помыслы о мирских делах и утехах, — хочет думать только о Боге да о спасении своей души, да не оторвет он от сердца своего привязанности к родной земле; сильно хочется ему знать, что на ней творится и творилось; хочется и другим поведать о том, что сам знает. И вот, помолясь Богу, принимается он усердно за труд. В поход ли князь пошел, враги ли напали на землю Русскую, новая ли церковь основана, знамение ли какое явилось на небе — все старательно записывает он в свою летопись. Скорбно повествует он о неурядицах в Русской земле, о княжеских усобицах, о злодеяниях; с умилением сердечным заносит он сказание о подвигах христианского благочестия. Смотрит он на свой труд как на благочестивое дело: будут читать летопись князья, бояре да монахи, узнают, сколько зла творилось нечестивыми, как Бог карал их за это, узнают и хорошие дела лучших русских людей, и легче будет добрым людям избирать правые пути в жизни и от зла сторониться. Нелегко было написать целую книгу, когда не умели еще скоро писать и приходилось букву за буквой вырисовывать; но усердно трудится летописец: он надеется «от Бога милость прияти», надеется, что и люди прочтут его летопись и добрым словом помянут его.