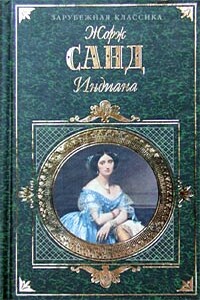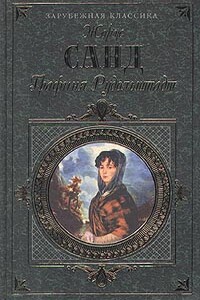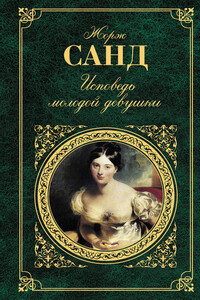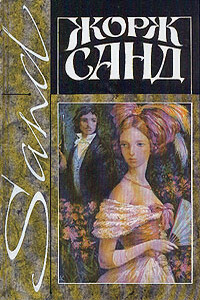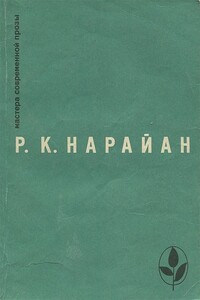Мы собрались, по обыкновению, в беседке из виноградных лоз. Вечер был грозовой и душный, в небе, покрытом черными тучами, тут и там вспыхивали молнии. Все мы хранили меланхолическое молчание. Какая-то печаль была разлита в окружающей природе; она проникала в душу, и на глаза невольно навертывались слезы, Беппа выглядела особенно угнетенной: ее явно одолевали какие-то мучительные мысли. Напрасно аббат, огорченный всеобщей подавленностью, так и этак пытался развеселить нашу подругу, обычно столь оживленную и резвую. Ни вопросы, ни колкие замечания, ни просьбы не могли вывести ее из задумчивости; устремив глаза к небу и рассеянно перебирая трепетные струны гитары, она, казалось, совсем забыла, где она и с кем, и занимали ее лишь жалобные звуки, которые она извлекала из своего инструмента, да причудливый бег туч. Добрый Панорио, обескураженный неудачей своих попыток, решил обратиться ко мне.
— А ну, дорогой Дзордзи, — сказал он, — примись-ка теперь ты за нашу капризную красавицу и испытай силу своего дружеского влияния на нее. Между вами ведь существует некая магнетическая симпатия, которая сильнее всех моих резонов, и звук голоса твоего способен вернуть Беппу к действительности, где бы ни витали ее думы.
— Магнетическая симпатия, о которой ты говоришь, дорогой аббат, — ответил я, — вызвана сходством наших переживаний. Мы страдали от одних и тех же причин, размышляли об одном и том же и довольно знаем друг друга, чтобы понимать, какие именно мысли могут возникнуть у каждого из нас в определенных обстоятельствах. Ручаюсь, что угадаю если не самый предмет, то по крайней мере направление ее мыслей.
И, обернувшись к Беппе, я тихо спросил:
— Скажи, carissima[1], ты вспомнила одну из наших сестер? Какую же?
— Самую прекрасную из всех, — ответила она, не оборачиваясь, — самую гордую, самую несчастную.
— Она умерла? Когда? — спросил я, живо заинтересованный судьбою той, что жила в воспоминаниях моей благородной подруги: мне хотелось вместе с нею погоревать об этой отнюдь не безразличной для меня утрате.
— Да, она умерла в конце прошлой зимы, в ту ночь, когда давали бал в палаццо Сервилио. Много горя перенесла она в жизни, но это не сломило ее; она преодолела множество опасностей, она мужественно прошла через страшные мучения и погибла внезапно, исчезла без следа, будто испепеленная молнией. Здесь все знали ее — одни больше, другие меньше, но никто не знал ее лучше меня, потому что никто не любил ее, как я, а она раскрывалась лишь перед теми, кто ее любил. Иные не верят, что она умерла, хотя с той самой ночи она больше не появлялась. Говорят, что и прежде ей случалось исчезать надолго, а потом она возвращалась. Но я-то знаю: она не вернется, ее земной путь окончен. О, как бы мне хотелось не знать этого столь достоверно! Но увы! Она позаботилась, чтобы до меня дошла роковая весть: мне передал ее тот самый человек, из-за которого она погибла. О боже! Какое несчастье! Самое большое несчастье из всех, что произошли в наше печальное время! Жизнь ее была поистине чудесна! Такая прекрасная и полная контрастов, такая загадочная и яркая, такая горестная и лучезарная, такая гордая, суровая и страстная; бурлящая всеми человеческими чувствами. Нет, ничья жизнь, ничья смерть не были похожи на ее жизнь и на ее смерть. В наш прозаический век она сумела изгнать из своей жизни все суетное и мелкое и оставить в ней только поэзию. Верная старым обычаям местной аристократии, она появлялась на улицах только с наступлением темноты, в маске, но всегда одна, без провожатых. Кто из жителей города не встречал ее на улицах и площадях, кому не попадалась на глаза ее гондола, привязанная где-нибудь на канале? Но никому никогда не довелось видеть ее в тот момент, когда она покидала гондолу или входила в нее. И хотя эта гондола никем не охранялась, не слышали, чтобы ее когда-нибудь пытались украсть. Она была расписана и оснащена точно так же, как всякая другая гондола, однако ее сразу узнавали; даже дети, завидя ее, говорили: «Вон гондола маски». Но каким образом она движется, откуда привозит но вечерам и куда отвозит наутро свою, хозяйку — никто даже отдаленно не представлял себе. Правда, таможенники из береговой охраны часто видели скользящую по лагуне черную тень и, приняв ее за лодку контрабандистом, бросались в погоню и преследовали ее, пока не выходили далеко в открытое море; однако на рассвете им никогда но удавалось заметить на волнах ничего похожего на лодку.
Со временем они привыкли не обращать на нее внимании и при ее появлении только говорили: «Это опять гондола маски». По ночам маска обходила весь город, будто искала что-то. Ее видели то на больших площадях, то на узких, извилистых улочках, на мостах, под сводами величавых дворцов в местах самых людных и самых пустынных. Она шла то медленно, то стремительно, видимо, безразличная к тому, есть вокруг нее люди или нет, но никогда не останавливалась. Казалось, она увлеченно разглядывала дома, памятники, каналы и даже небо над городом и с наслаждением впивала воздух лагуны. Когда во встречном человеке она угадывала друга, то знаком предлагала ему следовать за нею, и они исчезали. Не раз она так уводила и меня из толпы в какое-нибудь безлюдное место и говорила со мною о вещах, дорогих нам обеим. Я доверчиво шла с нею, ибо знала, что мы друзья; но многие из тех, кого он приглашала, на это не осмеливались. Странные слухи ходили о ней; они отпугивали даже самых отважных. Рассказывали, будто некоторые молодые люди, угадывая под этой маской и черным платьем женщину, влюблялись в нее, привлеченные как странностью и таинственностью ее жизни, так и ее прекрасной фигурой и благородной осанкой; и что, неосторожно последовав за нею, они уже никогда не возвращались. Полиция обратила внимание на то, что всегда это были австрийцы, и делала все возможное для их розыска и для поимки той, которую считали виновной в их исчезновении. Но сбирам везло не больше, чем таможенникам: им не удалось узнать что-либо о судьбе молодых иностранцев, и тем более — поймать эту женщину. Один странный случай охладил пыл даже самых усердных ищеек венецианской тайной полиции. Убедившись, что изловить маску ночью в Венеции невозможно, двое рьяных сыщиков решили подкараулить ее в самой гондоле, чтобы схватить, когда она вернется в нее перед отплытием. Однажды вечером они увидели ее гондолу у набережной Скьявони, вошли в нее и спрятались. Просидев там всю ночь, они ничего не приметили, но уже перед самым рассветом им показалось, что кто-то отвязывает лодку. Они насторожились, готовые броситься на свою жертву, но в то же мгновение сильнейший толчок опрокинул гондолу вместе со злополучными шпиками австрийской полиции. Один утонул, и другой тоже не спасся бы, если бы ему не оказали помощь контрабандисты. Наутро никаких следов лодки не было, и полиция решила, что она затонула; но вечером ее увидели на том же месте, что и накануне, и без следа каких-либо повреждений.