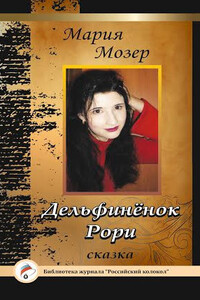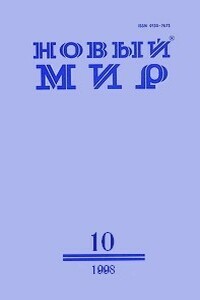Все началось с ружья. С того самого ружья, что лежало у него в спальне на шкафу уже лет десять — после того как мать, у которой оно хранилось до этого, сказала ему: «Знаешь, ружье — это все-таки мужская вещь. Я думала, ты его заберешь, когда я умру, но возьми лучше сейчас. У тебя уже свой дом. Пусть в нем будет что-нибудь от отца. А то я тебе о нем все что хотела все равно рассказать не успею, да ты и не спрашиваешь особенно. Может, ты и не виноват — он ведь умер, когда ты еще совсем маленький был, — что ты о нем помнишь, чтобы спрашивать. А так — на глаза попадется и вспомнишь. Только не продавай, пожалуйста, а то вы все любите старье продавать, все вам деньги нужны. Ружье-то действительно хорошее — отец говорил, что у него лучшего не было, хоть он и охотник так себе был — разве пару раз в год выберется, а это любил. Забери, а?». И он взял и отвез к себе выгоревший светло-зеленый брезентовый чехол, в котором тяжело позвякивало разъятое на две половины оружие какой-то легендарной книжной марки — то ли винчестер, то ли зауэр, то ли еще чего — мать уже не помнила, а сам он в этом и вовсе не разбирался.
И вот что удивительно — через какое-то время после того как со шкафа стал выглядывать черный кожаный кончик чехла, в который, надо думать, утыкались как раз концы отсоединенных стволов, и как стал этот черный кончик — запихнуть дальше, чтобы его не было видно, все равно не получалось, там уже начинались какие-то коробки со шляпами жены, старыми куклами дочери и всем таким разным, на что он уже давно махнул рукой, — попадаться ему на глаза всякий раз, когда он вытягивался вечером под одеялом и с полминуты расслаблялся, водя глазами по комнате, чтобы потом спокойно почитать на сон грядущий, он поймал себя на том, что все чаще и чаще думает об отце. Ему даже стало казаться, что он припоминает отца в каком-то странном, явно охотничьем одеянии — что-то вроде ватника с газырями и чуть ли не с этим самым чехлом за спиной. И он даже несколько раз спросил у удивленной и обрадованной матери, какую охоту отец любил, с кем из тех, кого он еще помнил, ездил, да и вообще, откуда это самое ружье взялось и как она, мать, то есть, с ее любовью и заботой о всяких там кошках, собаках и прочих тварях, от которой и он сам эту любовь раз и навсегда категорически унаследовал, так что дом его вечно был полон аквариумами, террариумами, клетками с птицами и банками со всякими жуткими, на взгляд жены, болотными обитателями, да, так как она могла при всем при этом мириться с убийственной, в буквальном смысле, забавой мужа. И мать рассказала ему, что охотился отец почти исключительно на уток, ездил все больше по Подмосковью — тридцать-то лет назад и тут всего хватало, в компании из знакомых был у него недавно умерший дядя Саша и еще один главный инженер их завода, который теперь уже старик и иногда появляется на их семейных торжествах — да она показывала, должен был запомнить, ружье ему еще до войны один друг подарил, погиб потом, а привез его из Германии, где в тридцатых годах работал, охоту она никогда не любила и его поначалу было удерживала, а потом поняла, что если он ездить не будет, то вообще со своего завода никогда отдохнуть не выберется, да и этих-то дней, видишь, мало оказалось — кто по-человечески отдыхал, а не по ночам в кабинете, тот и до сих пор живет, так что уж сдерживалась и даже уток этих дробью избитых, что он нет-нет да и привозил, стиснув зубы, чистила и для гостей готовила, чтобы показать, какой муж на все руки мастер. Тут она почти прослезилась, так что он быстро перевел разговор на то, какие у Настеньки хорошие отметки и как ее учительница по английскому хвалит.
А ружье так и лежало на шкафу, выставив черный кончик чехла, и напоминало об отце. Он иногда, редко правда, даже снимал его со шкафа, мокрой тряпочкой протирал пыль, возвращая старому брезенту молодой темно-зеленый цвет, который прямо на глазах опять подсыхал во что-то выгоревшее и заношенное, и даже порой рисковал расстегнуть расслоившийся от старости кожаный ремешок крышки, вынуть два долгих черных ствола и темно-ореховый резной приклад и даже соединить их — нехитра наука — в нечто легкое, тонкое и элегантное, но разом и грозное в своем временном молчании. Он немного покачивал его в руках, обхватив двумя пальцами — такая тонкая — шейку приклада, потом прилаживал его к плечу и целился в самый темный угол спальни, спускал по одному курки — кто их знает, как правильно-то, и стыдясь чего-то непонятного — может быть, того, что как-то раз застала его за этим делом жена, после чего и величала его кстати-некстати охотником, — снова разнимал его, укладывал в чехол, застегивал раздвоенный ремешок на третью, самую разношенную дырочку и клал потемневший брезент на шкаф до той поры, пока снова не придет охота стереть с него тускло-серую пыль, увы, самую что ни на есть примитивную пыль асфальта, заводов и строек, а не ту желтоватую, дорожную и лесную, которую он так часто стирал со своей болоньевой куртки и ботинок после долгих прогулок — в одиночестве или со всеми своими — по загородным долам и горам и которая наверняка куда больше пошла бы этому старому брезентовому хранилищу.