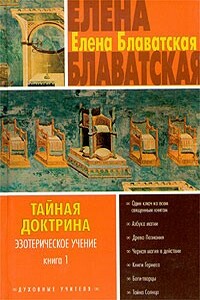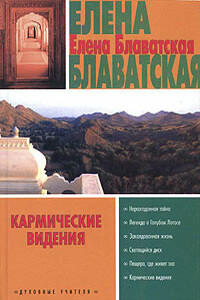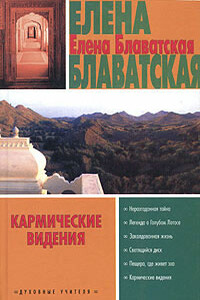Это было темной и холодной сентябрьской ночью 1884 года. Тяжелые сумерки опустились на улицы небольшого городка на берегу Рейна. Темнота могильным саваном покрыла тоскливое, ничем не примечательное фабричное местечко. Большинство обитателей городка уже давно отправились спать, чтобы дать отдых изнуренным дневным трудом членам. В большом доме было тихо, на пустынных улицах тоже царила тишина.
Я лежала на кровати, но, увы, не отдых, а болезнь приковала меня к постели, с которой я не вставала уже несколько дней. В доме было тихо, и можно было повторить вслед за Лонгфелло, что тишина казалась почти слышимой. Я отчетливо слышала гул крови, струившейся по моему больному телу с тем ровным пением, которое знакомо каждому, кто привык внимательно слушать тишину. Я прислушивалась до тех пор, пока в моем возбужденном воображении этот звук не усилился до рева воды в отдаленном ущелье или грохота мощного водопада… Затем внезапно звук изменился, и все усиливающееся «пение» слилось с другим; более приятным звуком. Это был тихий, поначалу почти неразличимый шепот. Он приближался и постепенно усиливался, раздаваясь почти у самого уха. Так раздается голос, доносящийся с другого берега голубого тихого озера, расположенного в одном из тех удивительно звонких ущелий, окруженных снежными вершинами гор. В этих ущельях воздух настолько чист, что слово, произнесенное в полумиле, раздается будто у самого вашего плеча. Да, это был голос человека, знать которого – значило почитать его. Этот голос чрезвычайно дорог и свят для меня из-за многочисленных и светлых мгновений, которые связывали нас. Этот голос я знала многие годы и всегда была рада его слышать, особенно в часы душевного или физического страдания, потому что он всегда приносил мне луч надежды и утешения.
– Будь мужественной,– тихо и нежно шептал он.– Вспомни о днях, проведенных нами в сладостном общении, вспомни о великих уроках природных истин, о многочисленных ошибках людей, пытающихся познать эти истины. Вспомни и прибавь к ним то, что узнаешь этой ночью в темном городе. Пусть же рассказ о странной жизни, который наверняка заинтересует тебя, поможет тебе в часы страданий… Итак, слушай внимательно. Смотри прямо перед собой!
За окном густой белесый туман извивался как гигантская тень огромного удава, медленно разворачивающего свои петли. Постепенно туман исчез, превратившись в яркий, мягкий, серебристый свет. Казалось, оконные стекла отражали тысячи лунных лучей и тропическое звездное небо. Свет этот шел с улицы, затем он переместился вглубь пустых комнат. Туман протянулся к моему дому через улицу, словно сказочный мост, соединяющий околдованные окна дома напротив с моим балконом, и не только с балконом, но и с кроватью, на которой я лежала. Я продолжала смотреть. Вдруг стены и окна напротив исчезли вместе с самим домом. Пространство за окном заняла одна небольшая комната в маленьком швейцарском домике. Это был кабинет, его стены заставлены книжными полками с множеством старинных фолиантов и современных книг. В центре – большой старинный стол, заваленный рукописями и письменными принадлежностями. За столом сидел угрюмый и худой как скелет старик с таким бледным и изможденным лицом, что свет небольшой настольной лампы двумя яркими пятнами отражался на его широких скулах, как будто вырезанных из слоновой кости. В руке он держал гусиное перо.
Я приподнялась на локоть, чтобы получше разглядеть его, и тут же видение швейцарского домика, кабинета, стола, книг и писца замерцало и придвинулось ко мне. Оно приближалось все ближе и ближе до тех пор, пока не скользнуло бесшумно по призрачному облачному мосту через улицу и не вошло через открытые окна в мою комнату, остановившись прямо перед моей кроватью.
– Слушай, что он думает и сейчас будет писать,– успокаивающе сказал все тот же далекий и в тоже время такой близкий голос.– Сейчас ты услышишь рассказ, который поможет тебе скоротать долгие бессонные часы и забыть на время боль. Итак, слушай! – добавил он, воспользовавшись известной розенкрейцерской каббалистической формулой.
Я попробовала услышать то, о чем он мне говорил. Я сконцентрировала все свое внимание на одинокой фигуре работающего человека, сидящего прямо передо мной, но не видящего меня. Сначала скрип гусиного пера, которым старик писал, не напоминал мне ничего, кроме тихого, почти неслышного, журчания неизвестной природы. Затем постепенно мои уши стали различать едва слышимые слова, произносимые тихим, слабым и далеким голосом. Я подумала, что человек, сидящий передо мной, наклонился над своей рукописью и читает свой рассказ вслух и записывает его. Но очень скоро я поняла свою ошибку. Бросив взгляд на лицо старого писца, я тут же заметила, что губы его были сжаты и неподвижны, а голос, который я слышала, был слишком тонок и пронзителен для старика. При каждом слове, которое выводила на бумаге старая слабая рука, из-под пера выскакивала легкая яркая искорка, которая тут же превращалась в звук, или, по крайней мере, превращалась в звук в моем внутреннем восприятии. И в самом деле, я слышала тихий голос гусиного пера, хотя вполне возможно, что и писец, и перо находились в этот момент в сотнях миль от Германии. Такое иногда случается, особенно ночью, под чьей звездной сенью, как говорит Байрон: