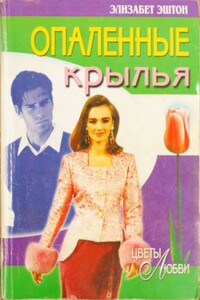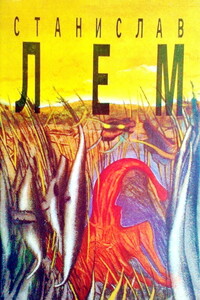— Иван Данилыч, можно тебя на минуту?
Краев обернулся и встретился с дышащим ненавистью взглядом Андрейчука.
— Ты, Данилыч, попридержал бы язык. Справедливость, справедливость… Что ты все в Павлика Морозова играешь? Не мальчик, пора и жизнь понять. А не хочешь — я тебе помогу.
Краев усмехнулся:
— Грозишь? Виноват, значит. Чуешь — не в твою сторону ветер дует. Не пугай. Не те времена.
— Не те, говоришь? Времена может и не те, да людишки-то прежние.
— Честному человеку бояться нечего.
— Не скажи… Страх-то он и к честному человеку приходит… Ну а как напишу я письмишко кой-куда, а потом еще… И пойдут тебе повесточки…
— Ты что, газеты не читаешь? Указ был. Не рассматривают теперь анонимки. Ты ведь подписываться не станешь?
— Ой — ой… Машина-то не заржавела. Главное — мотор вовремя завести, а бульдозеру без разницы в каком лесу просеку пробивать.
— Так вроде не чем меня попрекнуть и худому человеку.
— Не будь наивен, Иван Данилыч. Как говорится: был бы человек, а закон найдется. Вот, к примеру, дачка твоя. Этажей — два, первый — кирпичный, банька рядом, гараж… А материалы откуда? Документы, говоришь, имеются? А припомни: будто рассказывал ты, что потерял квитанции… или внучка их ножничками постригла на лоскуточки? Вот я и пропишу. Пусть проверят, откуда дровишки… А ты отмываться приготовься, чистюля. Так что думай, Иван Данилыч.
— Что тут думать… Я рад, что ты, наконец, нутро показал.
— Исключительно только тебе. К чему это я все? Хочу, чтобы знал ты, с кем связываешься. Так что прижми язычок-то… Органы может и не докажут ничего, но нервы тебе помотают. А потом я еще что-нибудь придумаю. Да, разговор-то наш без свидетелей. Не забывай — за клевету статья имеется, так что язычок-то, Иван Данилыч, язычок… Справедливость ты наша… Ну, прощай, значит.
***
Краев повернулся на другой бок, силясь заснуть, но мысли неотвязно возвращались к разговору с Андрейчуком.
«Просто человека очернить… — думал он. — И если бы правда, но на свои же трудовые… Сколько времени понадобиться, чтобы копии восстановить? Дергал меня черт за язык — документы потерял… Нашел, кому плакаться».
Гулкую тишину ночи разорвал резкий звонок.
«Четверть второго… какая нелегкая в такое время? Номером ошиблись, растяпы!» — догадался он, отыскивая в темноте коридора тумбочку с телефоном, и приложил к уху холодный пластик трубки.
В капсюле послышалось ровное гудение, в тишине ночи звучащее необычно громко, и Краев понял, что телефон здесь не причем. И дверной звонок, словно догадываясь, что думают о нем, вновь задребезжал надсадной трелью.
Опуская трубку на рычаг, Иван Данилыч ощутил легкий дискомфорт. Рука, обычно мягко обнимавшая трубку импортного аппарата, подаренного сыном, ощутила незнакомую угловатость и непривычную тяжесть.
Иван Данилыч провел по стене ладонью, нащупывая выключатель. Глаза сощурились от резкого перехода темноты к свету, и, открыв их, Краев удивленно обнаружил в руке неуклюжую черную штуковину, издающую непрерывный звук, и, переведя взгляд на тумбочку, — грязно-черный корпус телефонного аппарата довоенного образца. Взгляд его недоуменно скользнул ниже, машинально отмечая — тумбочка явно не та, что недавно приобретена в мебельном на Калужской. Полировка, вчера еще темная и блестящая, пестрела трещинами и царапинами, шпон посветлел, а дверца повисла на одной петле.
Под потолком снова тревожно звякнул дверной звонок.
«Это за мной, — неожиданно подумал Иван Данилыч. — И до меня очередь дошла…» И, удивившись, спросил: «За мной? Кто? Что это я?» Взгляд его, машинально ощупывая пространство и поражаясь странным изменениям в окружающих предметах, остановился на стене, еще вчера оклеенной обоями под кирпич, сегодня отсвечивающей ядовито-зеленым оттенком масляной краски. Краска местами пооблупилась, и кое-где виднелись полоски деревянной дранки на месте отвалившейся штукатурки. Расположение и форма обнажившихся внутренностей стены что-то смутно ему напомнили, и Краеву показалось — если посмотреть в правый угол, то можно увидеть большой медный таз.
Он медленно повернул голову, еще сомневаясь, но все-таки вздрогнул, когда в поле зрения появились позеленевшие разводы пузатого медного чудища. Стало жутко и непонятно и оттого одиноко. Иван Данилыч растерянно огляделся. Слева, в углу, на месте, где вчера был барометр, висел отрывной календарь на картонной подложке с краснощекой улыбающейся фабричной работницей. Краев протянул руку и потрогал его, убеждаясь, что это не странная игра сна. Осторожно, словно опасаясь, что календарь исчезнет, Иван Данилыч потянул за листок. Лист с треском оторвался. Краев поднес его к глазам, еще надеясь, что все это — обман слабеющего зрения.
С маленького бумажного прямоугольника на него в упор смотрел, усмехаясь в густые усы, человек, имя которого в детстве звучало чаще, чем его собственное. «Тысяча девятьсот тридцать шестой… — прочитал Краев. — Декабрь. Двадцать первое. День рождения нашего… самый лучший… верный ученик и соратник… продолжатель дела…»
«Тридцать шестой? Нет, это мне снится, — ухватился Краев за спасительную мысль. — Сейчас я проснусь… Двадцать первое… Тридцать шестой… Да, как рассказывала мать, в этот день забрали его отца». «- Перед этим многих его друзей забрали, — вдруг зазвучал в его голове давний разговор с матерью. — Вредителей искали: сталь не могли нужную выплавить. Решили: враги народа в шихту что-то подсыпают.