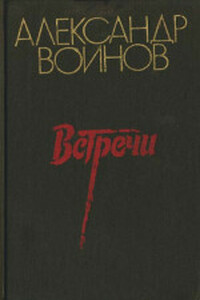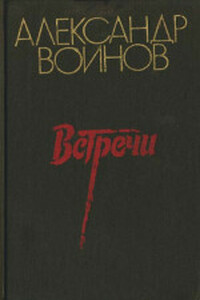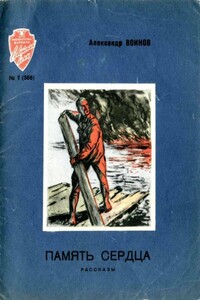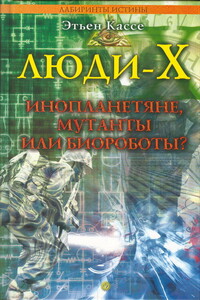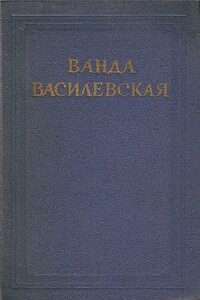Сиваш!… Гнилое море!… Бездонные топи!…
Когда мой дед рассказывает о Перекопе, его лицо молодеет; мысленно он вновь стоит на берегу залива и всматривается вдаль, где в мареве тают очертания Литовского полуострова.
Чонгарский мост… Сивашский мост… Армянский базар… Караджанайский мыс… Юшунь… Для деда все эти названия полны затаенного смысла. И когда я смотрю на старую фотографию, на которой он изображен молодым, лет двадцати, в изодранной шинели, опирающимся обеими руками на эфес кавалерийской шашки, я как-то не могу поверить в то, что этот крепыш, веселый парень и есть мой дед. А когда он начинает предаваться воспоминаниям, я невольно перевожу взгляд на фотографию, и тогда мне кажется, что и сам переношусь в ту, давнюю эпоху, — и как бы оживает молодой боец, уверенным движением поправляет саблю и весело кричит:
— А ну, Алешка!… Вперед!… Штурмуй Перекоп!…
Моему деду уже под восемьдесят. Но он сохранил память, зрение его остро, и ходит он без палочки… И я не знаю — седой ли он, потому что каждый месяц он бреет голову в парикмахерской, и розовая кожа на его голове кажется такой отполированной, что отражаются солнечные блики.
И хотя я уже имею взрослых детей, для деда я все еще Алешка, малый.
Он участник двух войн — гражданской и Отечественной и ему есть о чем вспомнить и о чем рассказать.
Вот я и записал несколько рассказов моего деда Никифора Антоновича Круглова, политрука 15-й стрелковой дивизии, преодолевшей Сиваш в ноябрьские дни давнего двадцатого года.
Подумать только, сколько лет прошло! Праздновали мы третью годовщину октября… Да, третью… В двадцатом… И застал нас этот день у Перекопа… Врангель засел в Крыму и думал, что мы его оттуда не выкурим. А за зиму он наберется сил, да как начнет наступать, так до Москвы и докатит…
Перекоп врангелевцы укрепили сильно. Над нашими позициями летали их «фарманы», разбрасывали листовки. А там писалось, что белые отошли в Крым по «стратегическим соображениям». Мы-то знали, сколько врангелевцев полегло в Северной Таврии. А сколько их сдалось! На соседнем участке поднял руки целый батальон дроздовской дивизии. А эта дивизия состояла почти из одних офицеров…
На фотографии я еще одет молодцом. Посмотрел бы ты на меня, когда мы на берег Сиваша вышли. Левая нога в разодранном лапте, правая в ботинке, — в подошве дыра — во!…
А ели мы баланду. Если кто найдет щепотку махорки, так всему взводу праздник. А спи — где хочешь. Хоть на берегу, хоть окоп себе в мерзлой земле выкапывай. В Строгановке, где мы остановились, во всех хатах не продыхнуть. Бойцы спят вповалку. Кричат во сне, от маяты кости ломит.
Я прикорнул в сенях крайней хаты, где наша рота расположилась, ждал, когда кого-нибудь вызовут, — всякие дела возникали по ночам: то обоз разгружать, то в карауле кто-нибудь заболевал, на подменку брали.
Ну и ночь!… От инея затвердел воротник шинели. Сидел, помню, смотрел в сторону Перекопа, как темное небо полосуют лучи прожекторов.
Врангелевцы подступы к Турецкому валу просматривают, а там у них — главные укрепления.
Молодой, конечно, я был тогда парень. Как началась революция у нас на Урале, многие мои однолетки в Красную Армию вступили. А когда убили белые Малышева, секретаря Екатеринбургского обкома партии, мы подали заявления в РКП(б) — так тогда называлась партия наша. А потом нас послали на юг России, добивать Врангеля. Сначала держались вместе, а в боях многие погибли, получили тяжелые ранения, эвакуировались в тыл. Так помаленьку оставшиеся и начали примыкать к другим частям.
Вдруг, слышу, скрипнула калитка, кто-то приближается к крыльцу, в темноте так и прыгает искорка самокрутки. Взглянул, и под ложечкой засосало. Есть же на свете счастливцы!
У калитки маячит Матвей Ерохин, тоже сибиряк, — моя шинелишка против его — бобровая шуба. А сам он так отощал, что под винтовкой сгибается. Но держится, и голос, когда надо, подаст с острасткой.
— Стой, кто идет?!
— Свой!… Свой!… — отвечает из темноты комиссар полка Кириллов.
И направляется прямо к хате. Только начал подниматься по ступеням — р-раз — и об мои ноги зацепился.
— Будь ты неладен, — бурчит. — Ты кто?
— Я? Круглов!…
— Чего ты тут людям ноги ломаешь?… Другого места спать не нашел… Подь сюда, раз уж я тебя встретил…
Спустился с крыльца, я за ним. Молча выходим за калитку.
— На затянись, — и комиссар тычет мне в пальцы бычок.
Какое же это было счастье хоть разок затянуться махрой! Самым, что называется, злоядовитым самосадом. Курнул — и помирать можно!…
— Вот что, Круглов, — говорит комиссар, — ты ведь партийный?
— Партийный, — говорю. — Хочешь, документ покажу?
— Не надо мне твой документ! Я своих людей без документов знаю… Вот что, Круглов!… Иди за мной!…
Взвалил я винтовку на плечо и пошел за комиссаром. И тут я только заметил, что он припадает на левую ногу. Вспоминаю, ребята говорили, что его еще неделю тому назад в лазарет отправили. А вот — идет… И даже отдыха Себе не ищет. Подумал я об этом и даже как-то о холоде забыл.
— Как же так, — говорю, — товарищ комиссар, вы же ранены, по такой дороге мне здоровому и то трудно идти… Вы только скажите, я мигом все сделаю!…