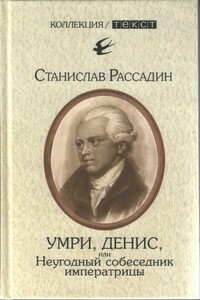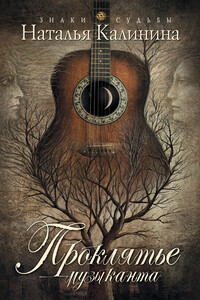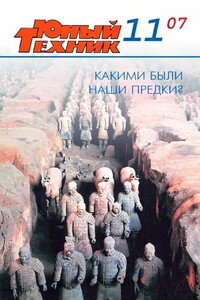ИЗ ТЕТРАДИ Г. Р. КРУЖОВНИКОВА
124 листа, ненумерованные. Бумага голубоватая, в четвертку,
без водяного знака. Переплет серого коленкора
«Мы получили следующий некролог из Сибири:
Хотя несколько поздно, но тем не менее мы считаем долгом заявить об утрате, понесенной в нынешнем году Восточной Сибирью, в лице одного замечательного обитателя этой страны и уважаемого в этом крае общественного деятеля: 20 февраля 1869 года в Петровске скончался Иван Иванович Горбачевский. Малоросс по происхождению, Горбачевский в молодости своей служил подпоручиком в Черниговском полку и, будучи членом Южного общества, решением Верховного уголовного суда в 1826 г. был приговорен к смертной казни — отсечением головы. Но приговор этот был заменен пожизненною каторжною работою, которая, однако, впоследствии была заменена пятнадцатилетним сроком. По отбытии этого срока в 1840 г. в Петровском остроге, в Восточной Сибири, Горбачевский, вместо того, чтобы последовать за своими товарищами по общему с ним несчастию на поселение в какой-либо из городов Сибири, предпочел остаться поселенцем в Петровске.
Здесь он и пробыл двадцать девять лет. В 1856 году Горбачевский, вместе с прочими декабристами, получил полное прощение и возвращение прав по происхождению. В течение этого времени он сделался известен во всей Восточной Сибири: его прекрасный характер, обширный ум и благородное сердце, направленные на бесчисленные дела благотворения, приобрели ему в крае всеобщее уважение… Учреждение училищ, вопрос об улучшении положения заводских рабочих, а также разные предприятия, имевшие целью оживить местную торговлю и промышленность в видах улучшения нравственного и материального благосостояния населения, — все это находило в Горбачевском самый живой отклик и сочувствие. Все свои скудные достатки он обращал на добрые дела, причем нельзя не заметить, что мягкостью и добродушием его зачастую пользовались во зло некоторые лица.
Все, от последнего заводского рабочего до генерал-губернаторов Восточной Сибири, чтили и уважали в Горбачевском честного человека…
В лице Горбачевского скончался последний декабрист, оставшийся еще в Сибири».
Из газеты «Голос» № 169 от 11 июля 1869 года. Подписано — «М»
С этого и начинаю. С конца.
А с чего еще прикажете, если я и к концу-то опоздал безнадежно? Если не успел хоть глянуть на своего соседа, нежданного-негаданного, но, оказалось, близкого и славного?
То, что и славен и близок, мне приоткрылось в самый первый день по прибытии сюда, в Петровский Завод, — «по прибытии для отбытия». Заботливый Вергилий из нижних полицейских чинов ведет меня на квартирку, куда не менее заботливое начальство его соблаговолило приткнуть новопоселенца Гаврилу Кружовникова. Шагаем мы с ним — он шагает, я тащусь, — и усатый, как говаривали в старину, водитель, приметив в ведомом одышливость, утешает, чем может:
— Небось, ваше благородие, уж недалече. Вот до Иван Иваныча дойдем, поворотим, а там рукой подать…
И видя, что я кручу головой в поисках столь непонятной для меня вехи, присовокупляет — да еще с такой изумленной укоризною, будто мы шагаем-тащимся не по кособокой улочке, которая, получив гордое имя: Большая, от этого не стала кособочиться меньше; нет, будто шествуем по Тверской или Невскому, и я, вахлачина приезжий, не возьму в толк, что дом, на который мне указывают, есть нечто такое, о чем не знать даже и неприлично. Английский клуб, допустим. Или того пуще — Аничков дворец. Поясняет — словом:
— Да не дотуль, куда глядишь! Досямес! Иван-то Иваныч — эва, матерный!
«Это же по-каковски?» — чуть не поперхнулся я. Но смолчал. Из-за той же одышки, которой нелегко достались петровские бугры, да и по причине другого недуга, неодолимой застенчивости, — и без того уже я угодил у моего провожатого в провинциальные недотепы.
Вскоре, однако, все объяснилось само собой. В переводе с забайкальского на санкт-петербургский сие означает всего лишь:
— Да не до того места, куда глядишь! До этого! Иван-то Иваныч — то есть понимай: дом-то Ивана Иваныча — вон тот, большой!
Каюсь перед языком, усвоенным с детства и казавшимся лучше некуда: когда я слышу такое, наше столичное наречие представляется мне пресным и водяным.
Товарищи по университету, избежавшие моих странствий! А ведомо ли вам, что такое по-здешнему: мерзавка? Не угадали, коллеги: ложбинка, не больше того. А греза? И опять промахнулись: дурь, смешно выговорить, — хотя не дурью ли в самом деле оказались иные из наших с вами грез?
Не к чему врать. Имя Горбачевского, промелькнувшее в забавном хороводе местных словечек, тут же и позабылось, — тем ли полнилась голова?
Слишком был я оглушен разлукой с привычным кругом занятий, приятелей и с той женщиной, которую люблю так давно, так тайно и так безнадежно. Потому и тайно, что — безнадежно. Слишком был занят переломом судьбы, в который до странного ослепления не хотел поверить даже тогда, когда все уже стало бесповоротно ясным, ни во время следствия не верил, ни на самом суде — вот разве что Сибирь — этот ни на что не похожий, никакой фантазией не предугадываемый край, ошеломивший при встрече, заставил-таки поверить — именно этой своей непохожестью и непредставимостью, которая как бы прямо сказала: оставь надежду всяк, сюда попавший. Это другой мир. С прежним — кончено.