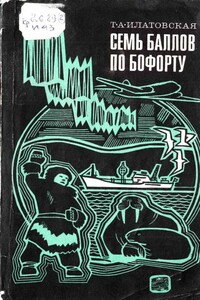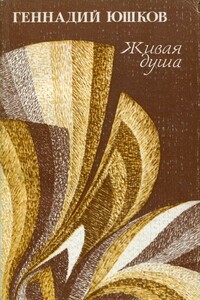Тамара Илатовская
Неугасающий свет
В цехе было влажно и душно, хотя окна распахнуты настежь. Как в лесу после дождя, пахло распаренной древесиной: в дощатых решетах невесомыми мыльными пузырями лучились бесчисленные колбы — голубые сайровые, огромный прожекторный «шар 250», серебристые кинолампы, нарядные авиационные. Дьяков вышел из «колбомойки» и зажмурился — столько запоздалого, сухого тепла рушилось с неба. На секунду пожалел о промелькнувшем отпуске и привычной рысцой понесся в завком — «выбивать» для диетиков бесплатное питание. Он уже взялся за теплую от солнца дверную ручку, когда из проходной метнулось в тесный заводской двор знакомое пестрое платье. Маруся. Жена и раньше приносила на завод срочные телеграммы — она работает в отделении связи. Но Дьякова испугало выражение ее мягкого, темноглазого лица. Маруся шла, как слепая, растерянно поправляя очки. Он вышел ей навстречу, и жена, подбежав, ткнулась с размаху ему в грудь головой, быстро проговорила, тяжело дыша:
— Всё… присвоили… надо же…
Он высвободил из ее кулачка смятую красно-белую бумажку. «…Высокой наградой… Героя…». Это был министр. На красном значилось «правительственная». Маруся распустила губы и заплакала. «Пришла на дежурство, говорят — беги, неси… А мама-то не верила…» Теща, и правда, когда услыхала про Героя, замахала руками: «Где тебе! Дюже тихий, другому отдадут».
Через час его вызвал «главный», Роман Алексеевич Нилендер, трижды лауреат Государственной премии, профессор, живая история их завода. Стиснул пальцы мягкой, но все еще сильной своей ручищей, легко обнеся грузное тело вокруг стола, встал рядом: «Рад, рад…» И подмигнул лукаво: «Смотри, тебе первому получать…» Он тоже в тот день стал Героем. Нилендер, Рольнова… Как ни крути, «Д» — первое.
И действительно — едва расположились под ослепительными люстрами Георгиевского зала, назвали его фамилию. Дьяков вскочил… Только потом, когда уже вернулся на место, горячий туман в голове рассеялся. Кто-то негромко сказал: «Ну, поздравляю, Юрий Николаевич. Звезда-то счастливая». Дьяков поглядел на номер Звезды — 12921, хоть слева читай, хоть справа. Темноволосая, миловидная женщина, похожая на Марусю, выдернула шпильку из пышной прически, прокрутила ему дырку на новом пиджаке: «Привинчивайте, привинчивайте, все уже надели…»
На завод он отправился рано, задолго до семи. Побродил по тихим, заставленным колбами пролетам, потрогал неподвижные люльки транспортера, протер тряпкой и без того чистый верстак. В половине седьмого пришла уборщица, тетя Нюра, ветеран колбомойки. Дьяков поздоровался с ней и быстренько шмыгнул к конусам. Но тетя Нюра догнала его, утерла сухие губы рукавом: «Дай-ка расцелую…» Трудно сказать, сколько тете Нюре лет. Никто не назвал бы ее старухой, но и молодой она вроде вовсе не была, — как все те безответные женщины, что, оставшись рано без мужей, забывали себя, накидываясь на любую работу, лишь бы поднять, вывести в люди малышей.
— Как средний-то? — спросил Дьяков, чувствуя, что неловкость понемногу улетучивается.
— А-а! — тетя Нюра отмахнулась по-мужски жилистой рукой.
— Так, может, к нам его?
— Говорила. Не идеть… Двое люди как люди, а энтот в кого? — она привычно пригорюнилась. Но глаза тотчас и посветлели: — Обещание-то исполнишь? Я палку припасла.
Дьяков взял палку, тети Нюрину щетку и, поднявшись в мастерскую, с удовольствием обстругал, закрепил гвоздиками новую ручку. Прежняя была коротковата, Нюре приходилось нагибаться, выметая от машин звонкий стекольный бой.
День, начатый так буднично, прошел, как всегда, — в беготне, хлопотах, разве что шуточек было побольше. Значит, порядок.
За семейным банкетом, где именинников было сразу двое (сестра Роза, бригадир сборщиц в тринадцатом цехе, тоже получила орден Трудового Красного Знамени), мать погрозила через стол: «Смотри, Юрка, нос не задирай. Промеж Кузнецовых такого сроду не было…» Она неспроста назвала свою девичью фамилию, фамилию большой, работящей семьи: так и не прошла за всю жизнь обида на мужа, отца детей. Отпихнул малолетних и ушел. Свекровь сказала тогда: «Ты, Антонина, убиваться не смей. Мне тяжельше — сына потеряла…», — и осталась со снохой, приглядывала за внучатами, пока та отстаивала по две смены.
Антонина Ивановна поглядела на сына. Нос большой, чуть вздернутый, дьяковский, и верхняя губа прямая, отцовская. А глаза, поди разбери, — светлые, озёрные глаза, рязанские. Все они были с рязанской земли, село Мурмино: она, отец с матерью, братья, сестра, будущий муж и его мать. Все работали на одной фабрике «Освобожденный труд». На восемнадцатом году Тоня вышла замуж за слесаря Николая Дьякова и перебралась, по обычаю, в его семью, в эту самую комнату на Бужениновке. Здесь и прожила больше сорока лет, детей вырастила. «Что-о стоишь, качаясь, то-онкая рябина… — обхватив ее за плечи, завела Маруся. — Го-оловой склоняясь до самого тына», — подхватили мужчины. И Вовка, внук, туда же, тоже мне, мужчина…
Недавно, во время поездки по ГДР и Польше, молодой ефрейтор спросил: «Товарищ Дьяков, Юрий Николаевич, разрешите спросить: откуда вы здешние места знаете?». Дьяков, стоявший у накрытого белой скатертью стола, лицом к солдатам — койки временно были выставлены и заменены стульями, — усмехнулся: «На брюхе, попросту говоря, все здесь исползал». Ефрейтор, слегка конфузясь, вгляделся в планку на его пиджаке, зашевелил губами: «За отвагу», «За оборону Москвы», ага — «За Варшаву»! Брест, крепость Модлин, Хойнице и Тухоля, Гданьск, Штецин, Сопот, Штральзунд, Росток. Долго он рассказывал бойцам о славном пути гвардейской дивизии. «Любите Россию, любите Россию!» — запела певица, ездившая с их группой. Дьяков достал папиросы и вышел на крыльцо. Было тихо, невидимо звенели цикады, и ярко, низко висела луна. Здесь, неподалеку, за неделю до победы, дружок Толька, сунув за пазуху штабной пакет, весело шпарил на трофейном мотоцикле по чистому весеннему шоссе. А навстречу вынырнула «шкода», а с другой стороны — старуха с девчушкой… Толька точно рассчитал — между тополей, через кювет и вверх. Но здесь тополя сажают в два ряда — перед кюветом и после. Тольку привезли крестьяне — на телеге, на трех тюфяках. И все три были мокрыми от крови…