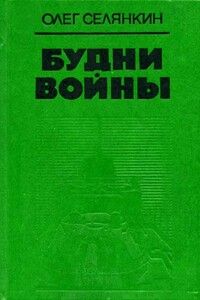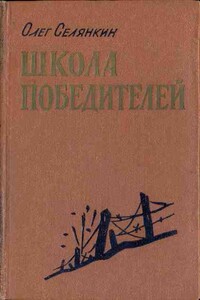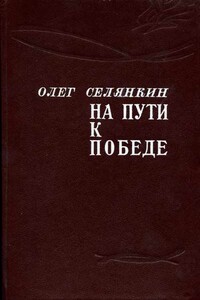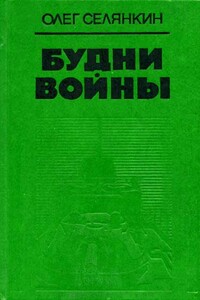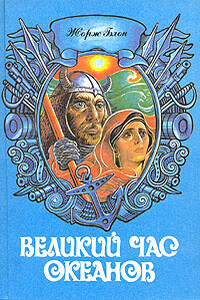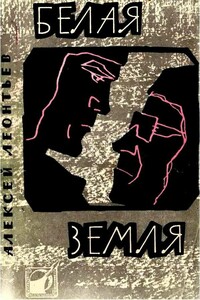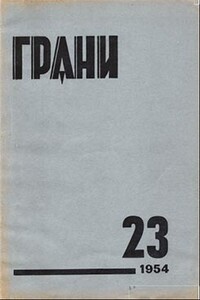Выражение «Мертвые сраму не имут» я услышал еще школьником и сразу воспринял как аксиому. Мертвые сраму не имут… Но в августе 1941 года, когда наш батальон морской пехоты прикрывал подступы к Ленинграду, главный старшина Григорий Осипович Нифонтов заставил меня задуматься над этими словами, увидеть за ними то, чего не замечал ранее.
Мы уже четвертые сутки держали оборону под деревней, название которой начисто стерлось в памяти. Мы — наш батальон, насчитывающий к тому времени восемьдесят два бойца, и дивизия народного ополчения, вернее — сотен пять вчера еще сугубо гражданских людей, работавших преимущественно на ленинградском Кировском заводе. Не помню какая, но одна из многих танковых атак чуть было не завершилась успехом: четыре бронированные коробки все же домчались до наших окопов, начали яростно утюжить их, норовя разорвать нас в клочья гусеницами, навечно пригвоздить к земле бесконечно длинными пулеметными, очередями и горячими снарядными осколками.
Поверьте, это не очень просто — вылежать на дне окопа, когда над тобой, закрывая небо и обдавая тебя вонючей гарью, ревет мотором многотонная громадина. И два матроса не выдержали, выскочили из окопа, побежали в деревню. Но пули быстрее любого человека, пристрелили их фашистские танкисты…
Когда мы бутылками с горючей смесью все же подожгли те танки и бой вошел в привычное для нас русло, кто-то из матросов и сказал, глядя на тех двух, которых страх выбросил из окопа:
— Мертвые сраму не имут.
Я промолчал, а вот главный старшина Нифонтов ответил:
— Не имут, говоришь?.. Ты так до самой смерти проживи, чтобы темного пятнышка на твоей совести не оказалось, и только тогда становись под теми словами.
Никто не возразил главному старшине. Промолчал и я, вдумываясь в его слова. Действительно, не ко всем павшим на полях сражений можно с чистой совестью отнести те слова. К великому сожалению, не ко всем. А мы, случалось, кривили душой. К примеру, что мне написать родным двух этих парней? Что они пали смертью храбрых? Вроде бы — нельзя. Что же тогда? Правду? Какую правду? Сегодняшнюю? Или общую, большую? И тут я понял, что не смогу написать сегодняшнюю правду. По нескольким причинам не смогу. В том числе и потому, что во всех прошлых боях эти матросы вели себя вполне достойно. А сегодня… Сегодня их подвели нервы.
До тех пор мы держали оборону под той деревней, пока фашисты не окружили нас, отрезав даже от ополченцев. Оказались в окружении — единогласно решили: надо прорываться к своим. И сравнительно удачно выскользнули из вражеского кольца, лесами и болотами пошли к линии фронта. Не знаю, сколько километров прошагали по качающимся под ногами кочкам, меж которых чернела болотная вода, и вдруг выбрались на маленький взгорок, где под ногами была сухая земля, обильно усыпанная иглами настоящих корабельных сосен, а не тех чахлых сосенок, которые столько часов укрывали нас от вражеских самолетов, беспрестанно сновавших в безоблачном небе. Здесь, на взгорке, в яме, оставшейся от корней вывороченной ветром сосны, мы и обнаружили парнишку лет двенадцати — чумазого, голодного.
Конечно, подкормили его, конечно, спросили, каким ветром занесло сюда. Оказывается, скрывается от гитлеровцев. Вернее — пока скрывается: он в душе давно решил, что обязательно присоединится к нашим солдатам, выходящим из окружения; и теперь сбылось его желание, теперь он пойдет с нами.
Кто-то из матросов, выслушав это столь категоричное заявление, сказал: нам, мол, нет никакого резона брать с собой мальчишку — мы воевать будем, а тебе за мамкиной юбкой прятаться еще надо. Шутливо, чтобы подзавести, так сказал. А парнишка заревел. В голос. Сначала мы растерялись, потом стали успокаивать как могли. И тогда сквозь всхлипывания мальчишка сказал, что отец его служит в армии, а маму убили фашисты. Нет, не расстреляли, а именно убили. Когда из пушек и минометов обстреливали деревню.
А позднее, окончательно успокоившись, мальчишка такое нам выдал:
— Нет, дяденьки моряки, вы обязательно возьмете меня с собой. Потому как по уставу не имеете права оставлять ребенка на голодную смерть… — Помолчал и неожиданно выпалил, хитровато глянув на меня: — А вдруг меня сцапают фашисты? Вдруг я выдам им, когда и в какую сторону вы пошли?
В уставе, разумеется, ничего подобного о мальчишках не говорилось, но нам понравилась боевая настырность парнишки, его умение мыслить логически. Ну и прихватили его с собой. Не просто позволили идти с нами, но и показали, как бросать гранаты, как стрелять из винтовки и автомата, перезаряжать их. Даже настоящий автомат дали. Правда, несколько позднее. После того, как прикончили фашистский патруль, который беспечно отдыхал у дороги, прорезавшей лес. Короче говоря, суток не прошло, как он стал полноправным бойцом нашего батальона. Двадцать четвертым. Да, почти за месяц боев ровно столько осталось нас от батальона. Но мы считали, что нам еще повезло: ведь мы с кровавыми боями отступали почти от Таллинна…
А звали парнишку, как он представился нам, Филиппом Филипповичем Филипповым. Настолько серьезно и солидно представился, что матросы моментально дали ему прозвище — Три Филиппа.