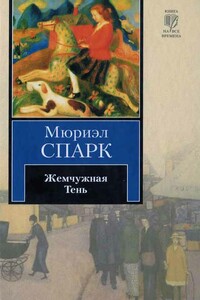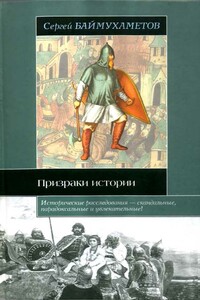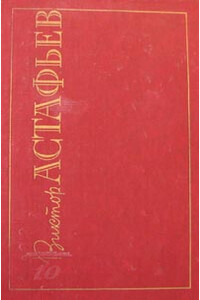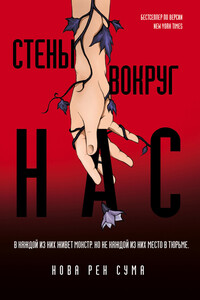Русскому читателю повезло с Мюриэл Спарк (как не со всеми современными классиками). Переводили ее щедро, и лишь маленькая часть осталась «неохваченной». Кое-кого, однако, удивит выбор этой вещицы, когда не переведены еще столь монументальные, серьезные, идейные романы, как «Единственная проблема» и даже «Ворота Мандельбаума» — книга, которую особенно ценят знатоки, и с ними не поспоришь.
Но на недалекий (слишком близкий, ощупывающий) взгляд переводчика, в том значительном романе с размашистым сюжетом, с размышлениями о вере, об истине, об искуплении, Спарк играет все-таки, пожалуй, на поле Грэма Грина, где он, рискну предположить, даст ей хоть и не сто, но несколько очков вперед.
Представляемый же на суд читателя роман — из тех, что могла написать только Спарк, и никто другой: эта резвая жуть, мелочно-проницательная нелепица, зримость и невероятность, элементарность, сплетенная с заумью, абсурд, непредставимый и просящийся на сцену, отвлеченное и, вместе с тем, осязаемое слово, небрежно-примитивный и сказочно-закрученный сюжет, весь этот бред, замешенный, увы, на правде, — такое могло родиться только в голове у Мюриэл Спарк (это и есть ее брэнд, как по испорченности хочется сказать). Именно в таких ее гротесках несравнимо отразился холодный XX век, который так долго она наблюдала.
В этом году (2011) ей исполнилось бы девяносто. Она себя считала по преимуществу поэтом.
И эта беспощадно едкая проза парадоксальным образом ничуть такой самооценке автора не противоречит.
И напрасно стали бы мы пытаться до конца растолковать, расшифровать ее замысел, «рассказать своими словами».
В автобиографических заметках Мюриэл Спарк («Curriculum vitae», перевод в «ИЛ» 2007, №11114) есть слова:
«Любая книга, которая стремится быть хорошей, стремится стать стихами».
Лучше не скажешь.
Остальные слуги смолкают, когда входит Листер.
— Их жизнь, — говорит Листер, — туман терзаний, их смерть — клубок страданий. Это строки из «Герцогини Амальфи» Джона Уэбстера[1], старинного нашего драматурга.
— Когда мы говорим: что-то не является невозможным, это ведь не то же, что сказать: это является возможным, — говорит Элинор, которая, хоть и моложе Листера, приходится ему теткой. Она разоблачается, придя с улицы. — Лишь формально — все, что не невозможно, уже возможно.
— Мы не о возможностях сейчас толкуем, — отрезает Листер. — Речь идет о фактах. Сейчас не время для беспредметных словопрений.
— О свершившихся фактах, — подтверждает Пабло, мальчик на побегушках.
Элинор вешает на вешалку зимнее пальто.
— Шум поднимется на всю Женеву, — говорит она.
— А как же он, на чердаке? — говорит Элоиз, самая юная служанка, сложив руки на круглом животе. Живот сам по себе ходит ходуном. — Как он, на чердаке? — говорит она. — Мы его, что ли, выпустим?
Элинор оглядывает ее живот.
— Лучше бы ты не возникала, когда будут журналисты, — говорит она. — И дался тебе он, на чердаке. Тебя расспрашивать начнут, дознаваться.
— Ой, — Элоиз гладит свой живот, — шевелится! Сейчас упаду без памяти. — Однако же она стоит, высокая, безмятежная, без памяти не падает и смотрит в окно людской.
— Он, в сущности, был благороднейший человек. Это был исключительный сюрприз для всей Женевы.
— Будет сюрприз, — поправляет Элинор.
— Зачем вдаваться в тонкости различий между прошедшим, будущим и настоящим глагольным временем, — замечает Листер. — Я вот с нетерпением жду известий из сторожки. Пора бы им приехать. Следите в окно. — Беременной он говорит: — Багаж весь вынесла?
— Пабло чемоданы сложил уже. — Элоиз поводит глазом на Пабло, при этом слегка поворачивая корпус.
— Не лишено резона, — говорит Листер.
— Пабло отец ребенка, — объявляет Элоиз, оглаживая живот, дрожащий у нее под фартуком.
— Я не могу с полной уверенностью это утверждать, — говорит Листер, — как, впрочем, и ты тоже.
— Ну только уж не барон, — говорит Элоиз.
— Нет, не барон, — согласен Листер.
— Не барон, определенно, — поддерживает Элинор.
— Бедный покойничек-барон, — вздыхает Элоиз.
— Вот именно, — скрепляет Листер. — Скоро он объявится. На «бьюике», я полагаю.
Элинор надевает фартук.
— Где мой морковный сок? Пойди спроси мсье Кловиса про мой морковный сок. С тех пор как я стала употреблять морковный сок, у меня заметно улучшилось зрение.
— Кловис занят своим контрактом, — говорит Листер. — Проволынил до последнего. Я-то свой уж больше месяца как заключил со «Штерном» и «Пари-матч». Придется, естественно, еще с киношниками кое-что утрясти, но главное — не суетиться. Усвойте: не суетимся и продаем тому, кто больше даст.
Кловис раздраженно поднимает взгляд от бумаг:
— Франция, Германия, Италия — все много предлагают. Но английский, учтите, — самый перспективный, доходнейший язык. Вот в этом пункте нам следует договориться. — И он возвращается к работе с документами.
— Мсье Кловис, конечно, приготовит еду сегодня, правда? — говорит Элинор. Она в дверях, идет на кухню. — Кловис! — кричит она. — Вы же не забудете про мой морковный сок?
— Тише вы! — шипит Кловис. — Я читаю мелкий шрифт. В мелком шрифте контракта самая соль. Сами себе готовьте свой паршивый морковный сок. Морковь в ящике для овощей, блендер у вас под носом. Все сегодня сами себе ужин готовить будете.