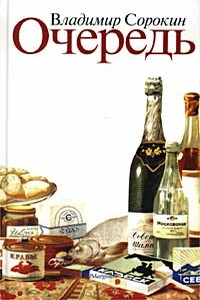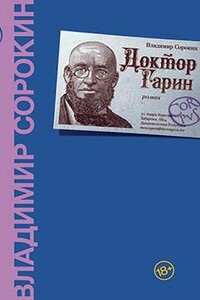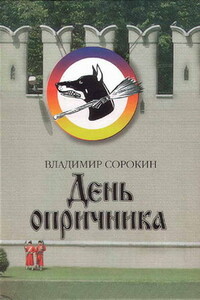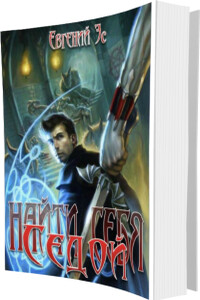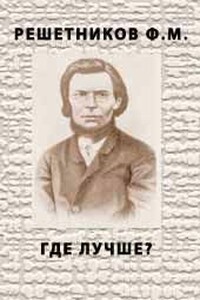Серо-голубое затишье перед рассветом, медленная лодка на тяжелом зеркале Денеж-озера, изумрудные каверны в кустах можжевельника, угрожающе ползущих к белой отмоине плеса.
Настя повернула медную ручку балконной двери, толкнула. Толстое стекло поплыло вправо, дробя пейзаж торцевыми косыми гранями, беспощадно разрезая лодку на двенадцать частей. Влажная лавина утреннего воздуха навалилась, объяла, бесстыдно затекла под сорочку.
Настя жадно потянула ноздрями и шагнула на балкон.
Теплые ступни узнали прохладное дерево, доски благодарно скрипнули. Настины руки легли на облупившиеся перила, глаза до слез всосали замерший мир: левый и правый флигеля усадьбы, молочную зелень сада, строгость липовой аллеи, рафинад церкви на пригорке, прилегшую на траву иву, скирду скошенного газона.
Настя повела широкими худыми плечами, тряхнула распущенными волосами и со стоном потянулась, вслушиваясь просыпающимся телом в хруст позвонков:
— Э-а-а-а-а-а…
За озером медленно сверкнула искра, влажный мир качнулся и стал разворачиваться к неизбежному солнцу.
— Я люблю тебя, — прошептала Настя первым лучам, повернулась и вошла в свою спальню.
Красный комод хмуро глядел замочными скважинами, подушка широко, по-бабьи улыбалась, свечной огарок немо вопил оплавленным ртом, с переплета книги усато ухмылялся Картуш.
Настя села за свой маленький столик, открыла дневник, взяла стеклянную ручку с фиолетовым коготком пера, обмакнула в чернильницу и стала смотреть, как рука выводит на желтой бумаге:
6 августа.
Мне шестнадцать лет. Мне, Настасье Саблиной! Воистину странно, что я не удивляюсь этому. Отчего же? Хорошо ли это или дурно? Наверное, я еще сплю, хотя солнце уже встало и озарило все вокруг. Сегодня — самый важный день в моей жизни. Как я проведу его? Запомню ли я его? Надобно запомнить все до мелочей, каждую каплю, каждый листочек, каждую свою мысль. Надобно думать хорошо. Papa говорит, что добрые мысли озаряют нашу душу, как солнце. Пусть же сегодня в моей душе светит мое солнце! Солнце Самого Важного Дня. А я буду радостной и внимательной. Вчера вечером приехал Лев Ильич, и после ужина я с ним и с papa сидела в большой беседке. Papa с ним опять спорил про Nietzsche, что надобно преодолеть в своей душе самого себя. Сегодня я должна это сделать. Хотя я и не читала Nietzsche. Я еще очень мало знаю о мире, но я очень люблю его. И люблю людей, хотя многие из них выказывают скуку. Но скучных же тоже надобно любить? Я счастлива, что papa и maman не скучные люди. И я счастлива, что наступил День, который мы так долго ждали!
Солнечный луч тронул кончик стеклянной ручки, она вспыхнула напряженной радугой.
Настя закрыла дневник и снова потянулась — сладостно, мучительно, закинув руки за голову. Скрипнула дверь, и мягкие руки матери сомкнулись вокруг ее запястий.
— Ах ты, ранняя пташка…
— Maman… — Настя запрокинула голову назад, увидела перевернутое лицо матери, обняла.
Неузнаваемое зубастое лицо нависло, тесня лепных амуров потолка:
— Ma petit filette. Tu as bien dormir?
— Certainement, maman.
Они замерли, обнявшись.
— Я видела тебя во сне, — произнесла мать, отстраняясь и садясь на кровать.
— И что же я делала?
— Ты много смеялась. — Мать с удовольствием смотрела на струящиеся в узком луче волосы дочери.
— Это глупо? — Настя встала, подошла — тонкая, стройная, в полупрозрачной ночной сорочке.
— Отчего же смеяться — глупо? Смех — это радость. Присядь, ангел мой. У меня что-то есть для тебя.
Настя села рядом с матерью. Они были одинаковые ростом, похожи сложением, в однотонных голубых сорочках. Только плечи и лица были разные.
В тонких пальцах матери раскрылся футляр малинового бархата, сверкнуло бриллиантовое сердечко, тонкая золотая цепочка легла на Настины ключицы:
— C’est pour toi.
— Maman!
Настя склонилась, взяла сердечко, волосы хлынули вокруг лица, бриллиант грозно сверкнул голубым и белым.
Дочь поцеловала мать в нестарую щеку.
— Maman.
Солнечный свет впился в зеленые глаза матери, она осторожно раздвинула каштановый занавес Настиных волос: дочь держала бриллиант возле губ.
— Я хочу, чтобы ты поняла, какой день сегодня.
— Я уже поняла, maman.
Мать гладила ее голову.
— Мне к лицу? — Настя выпрямилась, выставив вперед юную крепкую грудь.
— Parfait!
Дочь подошла к трехстворчатому зеркалу, островерхо растущему из цветастой мишуры подзеркального столика. Четыре Насти посмотрели друг на друга:
— Ах, как славно…
— Твое навечно. От нас с papa.
— Чудесно… А что papa? Еще спит?
— Сегодня все проснулись рано.
— Я тоже! Ах, как это славно…
Мать взяла стоящий возле подсвечника колокольчик, позвонила. Небыстро послышалось за дверью нарастающее шарканье, и вошла полная большая няня.
— Няня! — Настя подбежала, бросилась на дебелую грудь.
Прохладное тесто няниных рук сомкнулось вокруг Насти.
— Золотце мое, сирибро! — Колыхаясь, дрожа, словно собираясь заплакать, няня быстро-быстро целовала голову девушки большими холодными губами.
— Няня! Мне шестнадцать! Уже шестнадцать!
— Хоссподи, золотце мое, Хоссподи, сирибро мое!
Мать с наслаждением смотрела на них.
— Совсем не так давно ты ее пеленала.
Туша няни сотрясалась, громко дыша.