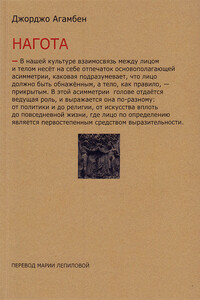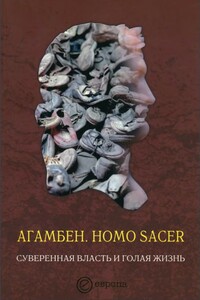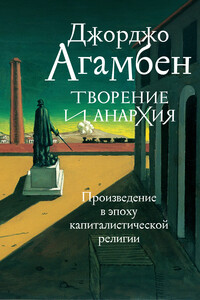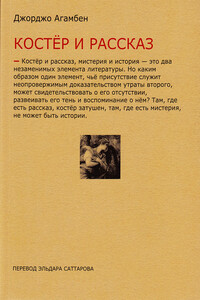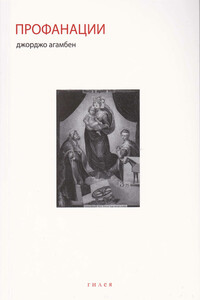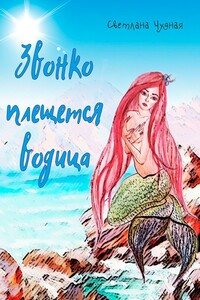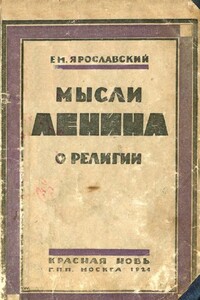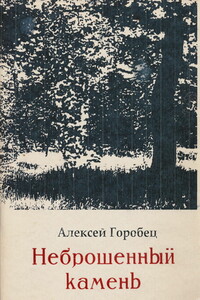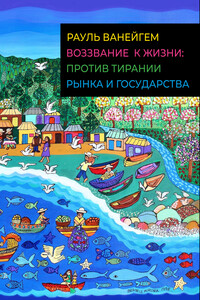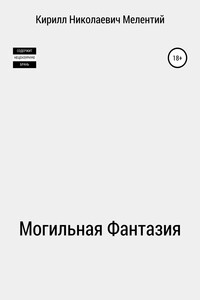1. Пророки преждевременно исчезли из истории Запада. Как верно утверждение, что невозможно понять иудаизм без образа nabi[1], что пророческие книги занимают в Библии центральное во всех смыслах место, так же верно и то, что в самом иудаизме очень рано начинают действовать силы, стремящиеся ограничить пророчество во времени и помешать его осуществлению. Раввинская традиция направлена на то, чтобы заключить пророчество в рамки некоего идеального прошлого, конечной точкой которого считается первое разрушение Храма в 587 г. до н. э. «После смерти последних пророков, Аггея, Захарии и Малахии, Святой Дух покинул Израиль; но голос с небес можно услышать через bat kol»[2] (буквально: «дочь голоса», то есть через устную традицию, а также через комментирование и толкование Торы). Подобным образом основополагающую функцию пророчества признаёт и христианство и даже формирует взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом исходя из пророческой модели. Но как только мессия приходит на землю и исполняет обет, существование пророка становится бессмысленным, и Павел, Пётр и им подобные выступают в роли апостолов (то есть «посланников»), а не пророков. Поэтому в христианской традиции на того, кто предстаёт в образе пророка, правоверие смотрит не иначе как с подозрением. Ведь и здесь желающий прикоснуться к пророчеству может сделать это лишь через толкования Писаний, через новое прочтение и восполнение утерянного первоначального смысла. В христианстве, как и в иудаизме, герменевтика пришла на смену пророчеству, и прорицание стало возможным на практике лишь в виде толкования.
Разумеется, образ пророка исчез из западной культуры вовсе не поэтому. Скрываясь под различными масками, он незаметно продолжает своё дело, возможно, даже выйдя за рамки чисто герменевтического круга. Так, Аби Варбург видел в Ницше и в Якобе Буркхардте двух противоположных по типу nabi: он полагал, что первый из них обращается к будущему, а второй – к прошлому. Мишель Фуко в лекции, прочитанной 1 февраля 1984 года в Коллеж де Франс, выделил четыре фигуры веридикции[3] в античном мире: пророк, мудрец, техник и паррезиаст[4], а в ходе следующей лекции он предложил отследить метаморфозы этих фигур в современной философии. Однако сегодня никто, как правило, не жаждет называться пророком.
2. Известно, что в исламе пророк выполняет ещё более важную – насколько это возможно – функцию. Пророками считаются не только библейские прорицатели в узком смысле слова, но также Авраам, Моисей и Иисус. Тем не менее, и здесь истинный пророк Магомет становится «печатью пророчества», то есть тем, кто своей книгой окончательно завершает историю прорицательства (которая, впрочем, всё так же тайно продолжается в комментариях и толкованиях Корана).
Притом показательно, что исламская традиция неразрывно связывает образ и задачу пророка с одним из двух творений или деяний Бога. Со гласно этой доктрине, Бог осуществляет два различных творения или два деяния (sunan[5]): созидание и спасение (или Повеление). Ко второму относятся пророки, играющие роль посредников в эсхатологическом спасении; первому же соответствуют ангелы, олицетворяющие созидание (при этом символом созидания является Иблис[6] – ангел, которому изначально было доверено царство, но который отказался поклоняться Адаму[7]). «У Бога, – пишет Шахрастани, – есть два творения или деяния: одно связано с созиданием, а другое – с Повелением. Пророки служат посредниками в утверждении Повеления, в то время как ангелы – посредники в созидании. И поскольку Повеление благороднее, чем созидание, посредник Повеления [то есть пророк] благороднее посредника созидания».
В христианской теологии эти два творения, объединённые в Боге, отождествляются с двумя отдельными субъектами Троицы: с Отцом и с Сыном, со всемогущим творцом и со спасителем, коему Бог передал всю свою силу. Однако для исламской традиции основополагающей стала некая очерёдность, в которой искупление предваряет созидание, то есть то, что кажется последующим, на самом деле является предшествующим. Искупление – это вовсе не избавление для падших существ, а нечто, что объясняет созидание и придаёт ему смысл. Поэтому в исламе свет пророка – самое первое творение (так же и в иудаистской традиции имя мессии было произнесено ещё до сотворения мира, а в христианстве Сын, порождённый отцом, единосущен ему и единовременен с ним). И нигде не говорится о том, что спасение первоочерёдно по отношению к созиданию, равно как и о том, что оно возникает как необходимость искупления, предшествующая появлению вины в созданной Вселенной. «Когда Господь сотворил ангелов, – говорится в одном hadith[8], – они посмотрели на небеса и вопросили: “С кем ты, Господь?”. Он ответил: “Я с тем, кто будет жертвой несправедливости до тех пор, пока не восстановится справедливость”».
3. Исследователи задавались вопросом о значении этих двух деяний Бога, упоминаемых вместе в одном аяте[9] Корана («О да! Ему принадлежит и создание, и власть»,