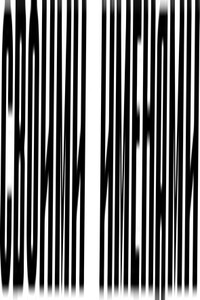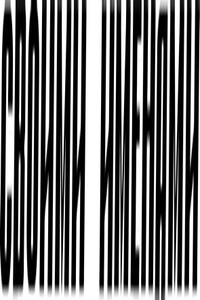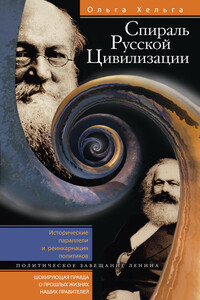Мобилизация, популизм и формирование русского национального самосознания
С середины до конца 1930 годов советское общество стало свидетелем значительного идеологического поворота: угроза войны и необходимость массовой мобилизации явились причиной того, партийная пропаганда и массовая культура обрели резко прагматическую направленность. Как ни парадоксально, русские национальные герои, система соответствующих образов и мифов использовались в течение этого времени для популяризации господствующей марксистско-ленинской идеологии — популистский прием, временами угрожавший затемнить интернационализм и классовое сознание, характерные для советской массовой культуры на протяжении почти двух предшествовавших десятилетий.
В настоящей работе рассматриваются изменения в партийной идеологии во второй половине 1930 годов, а также тот отклик, который этот переворот вызывал среди русскоговорящих граждан Советского Союза в течение почти двадцати лет. Заслуживает исследования характерная для этого периода выборочная реабилитация героев и исторической системы образов царской России, которая шла вразрез со сложившимися традициями; не меньший интерес представляет то, как восприняли идеологический поворот отдельные советские граждане. Используя источники, отражающие проблески общественного мнения, настоящая работа анализирует не только формирование и распространение сталинской идеологии с начала 1930-х и до середины 1950 годов, но и ее восприятие на уровне массового сознания.
Долгое время оставаясь источником разногласий, идеологические повороты 1930 годов описывались их современниками, Львом Троцким и Н. В. Тимашевым, в таких терминах как «преданная революция», «Термидор» и «Великое Отступление». Спустя годы исследователи вновь и вновь возвращались к вопросу об использовании сталинским режимом руссоцентричных героев, лозунгов и призывов. Вслед за Тимашевым некоторые ученые связывали этот феномен с националистическими симпатиями партийных руководителей [1], с ослаблением перспектив мировой революции [2] и ревизией марксистских принципов сталинской элитой [3]. Для других произошедшая трансформация связывалась с нарастанием угрозы, исходящей из внешнего мира (главным образом, с приходом Гитлера к власти в 1933 году) [4], появлением внутреннего этатизма [5], триумфом административного прагматизма над революционным утопизмом [6] и эволюцией советской национальной политики [7]. Некоторые утверждают, что данный феномен достиг полного развития только в 1940 годы в связи с тяжелым положением, вызванным войной [8]. И часть теоретиков вообще не склонна рассматривать происходившие перемены как симптомы более значительной идеологической динамики [9].
Большинство расхождений обусловлено тем, что очень сложно выявить происхождение руссоцентричной риторики и системы образов в середине 1930 годов. Истоки руссоцентризма в сталинской массовой культуре трудноразличимы из-за одновременных пропагандистских кампаний, ратующих за «советский патриотизм» и «дружбу народов» [10]. Кроме того, отсутствие целого ряда принципиально важных архивных фондов усложняют исследование скрытого от посторонних глаз механизма принятия политических решений [11]. Тем не менее, существуют источники, способные пролить свет на развитие идеологии между 1931 и 1956 годами. Главный тезис настоящего исследования состоит в следующем: в течение 1930 годов партийное руководство было настолько озабочено государственным строительством [12], массовой мобилизацией и обретением легитимности, что прибегало к руссоцентризму как к популистской идеологии. Другими словами, для партийной верхушки 1930 годов на передний план вышел своего рода прагматизм; стало ясно, что утопичный пролетарский интернационализм, определявший советскую идеологию в течение первых пятнадцати лет, на самом деле практически свел на нет все попытки мобилизовать общество на индустриализацию и войну. В поисках более сильной вдохновляющей идеи Сталин и узкий круг его приближенных в итоге остановились на руссоцентричной форме этатизма как на самом действенном способе поддержать государственное строительство и достичь массовой лояльности режиму.
Однако данный национал-большевистский курс был не просто способом мобилизовать русскоговорящее общество на индустриализацию и войну, — он обозначил собой преображение советской идеологии: молчаливое признание превосходства популистских и даже националистических идей над пропагандой, построенной вокруг принципов утопического идеализма. Прагматичное, если не сказать совершенно циничное, использование сталинской партийной верхушкой русских национальных героев, мифов и системы образов для популяризации господствующего марксистско-ленинского курса явилось сигналом символического отказа от прежней революционной традиции в пользу стратегии, рассчитанной на мобилизацию массовой поддержки непопулярного режима любыми средствами. И последнее, — и самое интересное — этот идеологический переворот должен рассматриваться как катализатор формирования массового национального самосознания в русскоговорящем обществе с конца 1930-х до начала 1950 годов — наиболее жестоких и трудных лет советского периода.