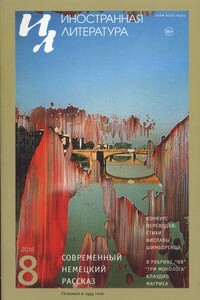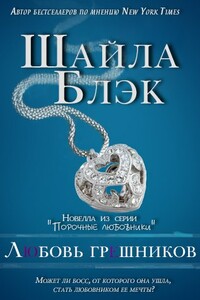Сначала все как обычно — как это всегда бывает каждое второе утро, в девять часов: Вернер Бетге отпирает дверь материной квартиры и заносит на кухню ящик яблочного сока. Как обычно, это мутноватый натуральный сок из биолавки, и как обычно, Вернер разувается, чтобы минут двадцать-тридцать посидеть с матерью в гостиной.
Но внезапно утро сворачивает с обычной колеи: едва он снимает ботинки, Лора Бетге кричит тонким, назойливым голосом:
— Вернер? Вернер?!
— А кто, по-твоему? В чем дело?
— Ты принес яблочный сок?
— А разве когда-нибудь не приносил?
— Натуральный?
— Какой же еще? Хочешь, бутылку покажу?
— Спасибо, Вернер, спасибо.
Она выезжает в кресле-каталке из гостиной в коридор.
— Мы возьмем его с собой. Весь ящик.
— С собой? Куда это?
— Даже не разувайся. Мы сию минуту уезжаем.
Вкатившись в кухню, она вытаскивает из-под стола дорожную сумку. Достает из холодильника бутерброды с колбасой, завернутые в пергаментную бумагу, и запихивает их в одно из отделений.
— Ты что ли в кругосветное путешествие собралась?
— Если бы в кругосветное, провиантом пришлось бы запастись поосновательней.
Она приподнимается в кресле-каталке и вытаскивает из-под подушки, на которой сидит, розовое плиссированное платье.
— Вот. Можно и не гладить.
Укладывает платье поверх бутербродов и застегивает сумку.
Розовое плиссированное платье. В молодости она его часто носила, о чем много раз рассказывала Вернеру. А впоследствии иногда надевала на день рождения. Но и это было давно, лет тридцать назад, не меньше.
Тут у Вернера брезжит догадка: у матери помутилось в голове. В конце концов, ей восемьдесят один, и, хотя она ест здоровую пищу, не курит и не пьет, вполне возможно, рассудок ей потихоньку изменяет.
— На дворе март. А день рождения у тебя осенью.
— Да, Вернер, сегодня двадцать третье марта. День рождения у меня семнадцатого сентября. Думаешь, у меня Альцгеймер?
— Тогда скажи на милость: куда ты собралась?
Она кладет сумку себе на колени и выкатывается из кухни в коридор.
— Мы едем в Эрланген. Или ты забыл, что сегодня день рождения твоего отца?
Она распахивает дверь квартиры и мощным рывком переезжает через порог.
— Надеюсь, машину ты оставил у подъезда?
Вернер действительно оставил машину у подъезда, но вот об отцовском дне рождения начисто позабыл. Да и какое ему до этого дело? Они ни разу не виделись с тех пор, как отец ушел. То есть уже почти пятьдесят лет. Вернеру было восемь, и, поскольку он не желал помнить, когда у отца день рождения, вскоре дата забылась.
— Ты же не всерьез? Быть того не может, что ты это всерьез.
— Почему не всерьез? Совершенно всерьез. Спусти меня, пожалуйста, по лестнице.
Вернер настолько ошеломлен, что поневоле смеется. Но собственный смех его только злит. Обувшись, он подхватывает кресло-каталку вместе с матерью и ее сумкой и поднимает все это перед собой, подперев снизу большим, круглым брюхом.
Он тащит Лору вниз по лестнице и говорит сам себе: не весила бы она сорок, а то и меньше сорока килограммов, была бы хоть немного потяжелее, а то и по-настоящему толстой, он мог бы сказать — нет уж, это мне не под силу. Впрочем, она все равно бы не успокоилась. Пришлось бы везти ее по лестнице, ступенька за ступенькой, а это еще хуже.
— Откуда ты знаешь, что он все еще живет в Эрлангене?
— Эх, Вернер, Вернер. Ведь отправлял же он нам с Запада продукты! А на посылках стоял адрес.
— Да, но ведь… Полжизни прошло.
— Твой отец, Вернер, всегда был флегматиком. Он ненавидит перемены. Он точно в Эрлангене. Там он — исключительный случай! — как-то раз перестал быть флегматиком.
Похоже, она даже мысли не допускает, что он может жить в другом месте, не там, куда переехал сорок девять лет назад. Ан-ден-Келлерн — так называется улица. Это название Вернер не забыл. Он никогда не прикасался к продуктам, которые приходили в посылках, все их содержимое — кофе, шоколад, кексы, что бы отец ни прислал — Лора продавала знакомым. А лет через пять посылки приходить перестали. Даже открыток от отца они не получали — ни из Эрлангена, ни откуда-нибудь еще.
— Не можем же мы просто взять и нагрянуть к нему.
— Почему это? Разве нам кто-то запрещает? Где написано, что так нельзя делать?
— Когда ты в последний раз ездила в такую даль? Может статься, тебе это не по силам. В твои-то годы.
Вернер ставит у подножия лестницы кресло-каталку, в котором сидит его мать. Он весь взмок и тяжело дышит.
— Я никогда еще не ездила так далеко, Вернер. Ни разу в жизни!
Она вдруг запинается. Ей что-то вспомнилось — что-то весомое.
— Вернер, сок! Ты забыл яблочный сок!
Она качает головой, вопреки рассудку, по-прежнему переживает за растяпу-сына.
Вернер приносит ящик. Он тянет время. Лора наверняка на него уже сердится. Но когда он возвращается, она говорит — похоже, ее забавляют собственные мысли, — говорит всего-навсего вот что:
— Леопольда тоже всегда приходилось подолгу дожидаться. Бог мой, какие же вы неповоротливые.
Вернера вновь захлестывает ярость. Как часто она повторяла: ты так на него похож. Вернеру было десять, одиннадцать, двенадцать лет, а Лора произносила это с едва скрываемой злобой. Вернер не знал, что возразить ей, и только изо всех сил старался не показывать, как его задевают материнские слова. И теперь не показывает. Он пересаживает Лору на переднее пассажирское сиденье, складывает кресло-каталку и убирает его вместе с сумкой в багажник.