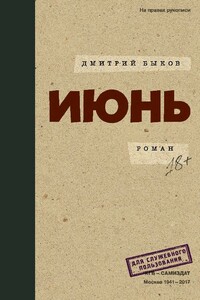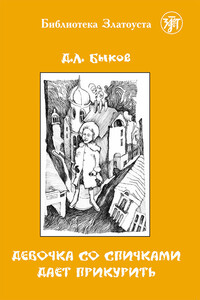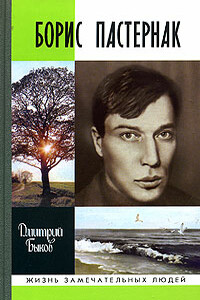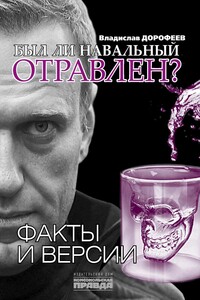Любой, кто жил на Украине, знает, что она придумана Гоголем. У всякой нации есть гений, закладывающий основы ее мифологии, отбирающий из бесчисленных и неоформленных народных преданий то, что войдет в канон, и доводящий эти предания – часто хаотичные и фрагментарные – до великой литературы. Гоголь взял украинский фольклор, добавил немецкого, которым увлекался,- и, тоскуя в Петербурге по Полтавщине, за каких-то два года написал весь корпус национальных преданий, в которых собраны главные украинские архетипы. Тут тебе и заколдованное место, и русалки, и жуткие карпатские сказки о неумолимых мстителях, чье проклятие действует вплоть до девятого колена, и чернобровые скандальные красавицы, ставящие перед хлопцами невыполнимые задачи. «Вечера на хуторе близ Диканьки», хоть и написаны по-русски, хранят мелодику украинской речи. По большому счету это главная книга украинской литературы.
Гоголь не зря преподавал историю и хорошо знал филологию: в первой и самой обаятельной своей книге он выступает не столько выдумщиком, сколько фольклористом. Украинские сказки радикально отличаются от русских – они романтичнее, в них больше мистики и меньше добродушия. Сказывается близость Европы, пограничность всей украинской жизни: днем – жара, полнокровная, яркая, крикливая и многоцветная жизнь юга, ночью – темные, туманные призраки Запада, дикие поверья Трансильвании. Кстати, ежели почитать оригиналы – украинские народные песни, сказания, бытовые сказки,- видно, что двадцатидвухлетний автор «Ганса Кюхельгартена» сильно подмешал в родной фольклор гофманианы; если Пушкина пленил романтизм французский, а Лермонтова – английский, то Гоголь был с детства отравлен немецким. Но в том и его гениальность, что примесь оказалась на редкость органичной: именно мрачные призраки и темные поверья отлично вписались в жизнерадостные украинские легенды. Видимо, потому, что шумен украинский день и тиха украинская ночь: эти две крайности отлично дополняют друг друга. На Украине, как и вообще на юге, все это выражено ярче: если веселье – оно длится три дня, если ужас – от него читатель не заснет три ночи, «толкуя о страшном, в старину случившемся деле». Только меланхолик мог написать такую смешную книгу; только великий юморист мог так ужасаться.
Гоголь не ограничился мифологией и стал выдумывать быт. Следующий шаг – «Миргород»: остается только поражаться тому, как четко этот автор сознавал свои задачи и как последовательно выстраивал свой мир. Сначала, как положено,- мифология, потом – современность: Миргород избран не потому, что чем-нибудь примечателен, а потому, что стопроцентно типичен. Бублики хотя и пекутся из черного теста, но довольно вкусны: оно, конечно, и глушь, но очаровательная; главная же примета украинского быта – полнота, совершенство, доведенность всех проявлений до абсурда, до карикатуры, до той грани, за которой гротеск. Если ссора – то ссора на многие годы, с мировым судьей, с демоническими силами вроде свиньи, которая врывается в присутствие и пожирает бумаги; если богатырство, то богатырство почти сверхъестественное, былинное, а доблесть такая, что и перед сыноубийством не остановится. Есть интересная работа Елены Иваницкой о том, что Бульба у Гоголя, в сущности, использует все предлоги – от любви к детям до любви к Родине – исключительно для реализации своих глубоко аморальных потребностей: бить, грабить, насиловать, жечь… В общем, тут нет парадокса: есть некий тип, избыточный во всем и до того переполненный жизненной силой, что любое мирное занятие наскучивает ему через час. Естественно, он умеет только захватывать все доступное ему пространство кавалерийским наскоком – и ничему другому не обучен; этот фантастический пассионарий с откровенно садистскими наклонностями и есть национальный герой, так он выглядит, нечего отворачиваться.
На зеркало неча пенять, коли рожа крива. И то сказать, выразительнее Бульбы никакого казака уже не напишешь: Гоголь довел казачество до предела, абсолюта,- и все казацкие сувениры, картины и заведомо эпигонские повести делались с тех пор исключительно по этому образцу. «Старосветских помещиков» критики вроде Белинского трактовали крайне плоско – вот, мол, нарочитый контраст, героическая жизнь Бульбы – и ужасная, застойная, ерундовая жизнь Афанасия с Пульхерией, где люди помирают не от вражеской пули или ужасной пытки, а от того, что кошка сбежала. Между тем и в «Помещиках» – такая же титаническая, исчерпывающая полнота, что и в «Бульбе»: идиллия, доведенная до абсурда. Если кушают, то постоянно, практически не прекращая этого занятия; если любят, то так, что часу друг без друга не обходятся; если быт – то уж такой, что кроме него не остается ничего. Мир этот наполнен любовью, но в ее самом плотном, вещественном проявлении: все дышит, полнится, переполняется ею – надави, и брызнет. Попробуйте вот этих пирогов с капустой, они очень мягкие и кисленькие! Что это так говорит? Пошлость? Глупость? Любовь! Гоголь писал трагическую и смешную идиллию сельской Украины, и хотите вы того или нет, а его старосветские помещики – ровно такие же титаны, как и Бульба с Остапом. (Впрочем, и Андрий титан: как надо влюбиться, чтобы предать Родину? Реабилитацию этого характера предпринял уже в наши дни Борис Кузьминский в замечательном эссе «Памяти Андрия» – доказав, что он герой еще погероичнее отца). Вторая часть «Миргорода» – то же торжество полноты и цельности: Иван Иванович и Иван Никифорович надолго, если не навсегда, воплотили собою украинский национальный характер с его самодовольством и тягой к великолепным крайностям вроде многолетней распри из-за ерунды; в России соседям обычно надоедает собачиться,- в Украине запас южных, неистребимых жизненных сил таков, что два соседа, жирный и жилистый, не могут примириться несколько лет, вовлекая весь город в орбиту своей ерундовой, чудовищной, опять-таки титанической ссоры. Посмотрите на сегодняшнюю украинскую политику с мелочностью поводов и масштабностью катаклизмов, с многолетними и многословными разбирательствами,- и с подспудным ликованием от всего этого: не ссора – праздник, гулянье, карнавал! Ведь и история Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем – как-никак демонстрация грандиозных человеческих способностей: чего они не учудили, чтобы уязвить соседа! Каждый выложился, как мог, всего себя посвятил этой задаче… и когда автору в конце стало «скучно на этом свете, господа», так ведь и скука – сверхъестественная, титаническая, покрывающая собою весь мир, такая скука, что от нее и дождь идет, и поля зеленеют какой-то особенно едкой зеленью… Боюсь, именно такая скука ждет и Украину после помаранчевых катаклизмов,- но как бурно, лихо и жизнерадостно тут свергали власть! Эта подспудная жизнерадостность всякой местной разборки отлично уловлена в «Миргороде» – а может, и придумана, ибо Украина, послушная Гоголю, стала аккуратно выполнять предписания своего беглого, но любимого сына.