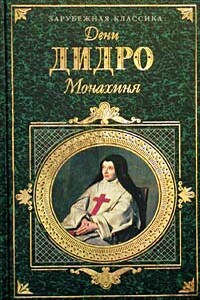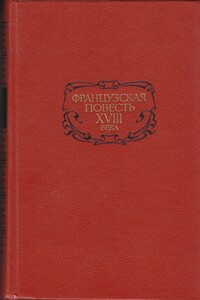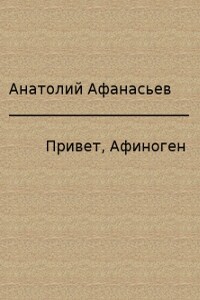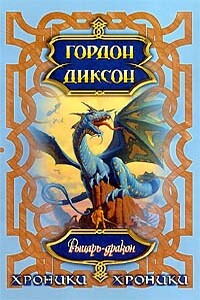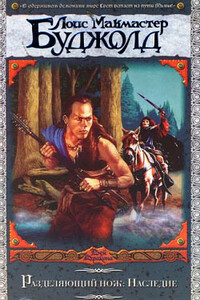Дени Дидро
Мысли к истолкованию природы
К молодым людям, предполагающим заняться философией природы.
Молодой человек, возьми эту книгу и читай. Если ты дочитаешь ее до конца, ты сможешь понять и лучший труд. Я думаю не столько о том, чтобы обучить тебя, сколько о том, чтобы дать тебе возможность поупражняться, поэтому для меня не так уже важно, примешь ли ты мои мысли или отвергнешь их, — лишь бы ты прочел их со всем вниманием. Более искусный автор научит тебя познавать силы природы; для меня достаточно, чтобы ты испытал свои силы. Прощай.
Р. S. Еще одно слово, и я оставляю тебя. Неизменно помни, что природа — не бог, человек — не машина, гипотеза — не факт; и будь уверен, что если ты усмотришь в моей книге что-нибудь противоречащее этим принципам, значит, ты меня совсем не понял.
К ИСТОЛКОВАНИЮ ПРИРОДЫ.
I. Я предполагаю писать о природе. Пусть мысли, выходящие из-под моего пера, следуют в том порядке, в каком сами объекты открылись мне в размышлениях;
такой порядок лучше представит движения моего ума и мою логику. Это будут или общие воззрения на искусство экспериментирования, или частные взгляды на явление, которое, по-видимому, занимает всех наших философов и разделяет их на два лагеря. Одни, как мне кажется, имеют в своем распоряжении много орудий, но мало идей;
у других много идей, но нет орудий. Интересы истины требуют того, чтобы те, кто размышляет, соизволили наконец объединиться с теми, кто действует; чтобы умозрительный философ мог приобщиться к действию; чтобы сами действия с предметами были целенаправленными; чтобы все наши усилия оказались объединенными и направленными на преодоление сопротивления природы и чтобы в этом своеобразном философском союзе у каждого оказалась подходящая ему роль.
II. Одной из истин, провозглашенных в наши дни с наибольшим мужеством и силой, — истиной, которую хороший физик никогда не упустит из виду и которая, несомненно, будет наиболее плодотворной, — является то, что область математики есть мир умозрительный; иными словами, истины, принимаемые за строжайшие, безусловно, теряют это преимущество, когда их переносят на нашу землю. См. "Всеобщую и частную естественную историю" (Бюффона и Добантона), т. I, рассуждение 1-е. Отсюда заключили, что опытная философия должна исправить геометрические расчеты; с этим выводом согласились даже сами геометры. Но к чему затем выверять геометрический расчет? Не проще ли придерживаться выводов, полученных из опыта? Из этого видно, что математические науки, являющиеся в наибольшей степени трансцендентными, без опыта не приводят ни к чему точному, что это своего рода общая метафизика, где тела лишены своих индивидуальных качеств; во всяком случае, пришлось бы написать большой труд, который можно было бы назвать "Применение опыта к геометрии" или "Трактат об ошибках измерений".
III. Мне не известно, существует ли какая-нибудь связь между способностью к игре и математическим гением; но есть большое сходство между игрой и математическими науками. Если, с одной стороны, не принимать во внимание неуверенность в исходе игры, зависящем от случая, и, с другой стороны сравнить эту неуверенность с неопределенностью, связанной с абстрактным характером математики, то партию игры можно рассматривать как неопределенный ряд проблем, подлежащих решению на основании данных условий. Нет таких математических проблем, к которым было бы неприложимо это определение, и предмет (chose) математики существует в природе не в большей мере, чем предмет игры. И здесь и там это дело соглашения. Когда геометры обесславили метафизиков, они и не предполагали, что вся их собственная наука не что иное, как метафизика. Однажды у геометра спросили: "Что такое метафизик?" Геометр ответил: "Это человек, который ничего не знает". Что же касается не менее резких в своих суждениях химиков, физиков, натуралистов и всех тех, кто связан с экспериментальным искусством, то, мне кажется, в данном вопросе они мстят за метафизику, прилагая к геометру то же самое определение. Они заявляют: к чему нужны все эти глубокие теории небесных тел, все эти грандиозные вычисления рациональной астрономии, если они не избавляют Брэдли или Лемонье от необходимости наблюдения неба? А я утверждаю: счастлив тот геометр, у которого сосредоточенное изучение абстрактных наук не ослабит вкуса к изящным искусствам; кому Гораций и Тацит будут столь же близки, как Ньютон; кто сможет открывать особенности кривой и чувствовать красоты поэзии; чей ум и труды будут иметь значение во все века и кто будет почтен всеми академиями! Он не затеряется во мраке неизвестности, для него не будет опасности пережить собственную славу.
IV. Мы приблизились ко времени великой революции в науках. Принимая во внимание склонность умов к вопросам морали, изящной словесности, естественной истории, экспериментальной физики, я решился бы даже утверждать, что не пройдет ста лет, как нельзя будет назвать и трех крупных геометров в Европе. Эта наука остановится на том уровне, на который ее подняли Бернулли, Эйлеры, Мопертюи, Клеро, Фонтены, Д'Аламберы и Лагранжи. Они как бы воздвигли Геркулесовы столпы. Дальше этого идти некуда. Их труды будут жить в веках, как и египетские пирамиды, громады которых, испещренные иероглифами, вызывают у нас потрясающее представление о могуществе и силе людей, их воздвигших.