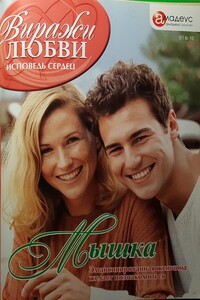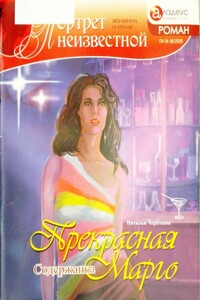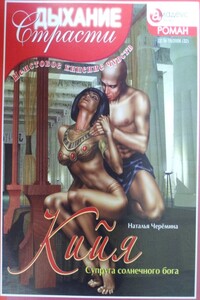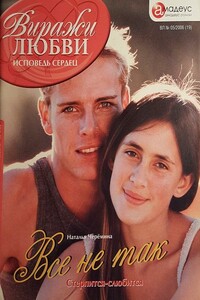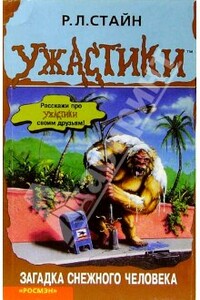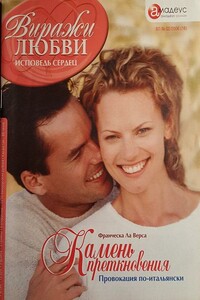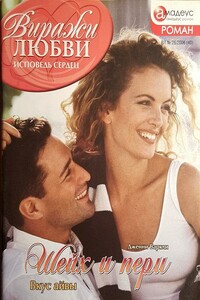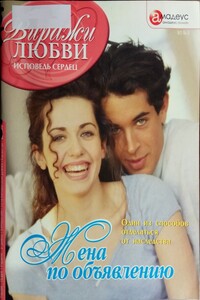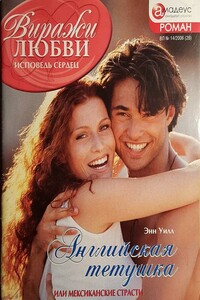Из темнеющего больничного окна на нее глянуло отражение усталой, измученной тетки с впалыми щеками и темнотой вокруг глаз. Тело ныло воспоминанием о пережитой боли, но на душе было тихо и ясно. Она откинулась на подушку и стала изучать трещинки на облупившейся раме. Ей надо было отдохнуть, но спать не хотелось — слишком хорошо думалось. Мысли уносили к тем временам, когда отражение глядело свежим щекастым личиком, а самой большой болью был вырванный зуб.
Как это часто бывает в среднестатистических семьях, в которых рождаются одна за другой две дочери, родители, в свое время прилежно учившиеся в школе и уважающие Пушкина, назвали их Ольга и Татьяна. Старшая, Ольга, взяла себе все яркие краски и красивые формы, причитающиеся на двоих: шелковистые каштановые волосы, влажные карие глаза, пухлые губки, блестящую улыбку и ладно скроенную фигуру. Младшей досталось ровно столько, чтобы не казаться страшненькой. Папа иногда ласково называл ее «мышка моя», на что Татьяна, в детстве любившая это прозвище, повзрослев, обижалась. Обижалась потому, что не могла не видеть в зеркале мышиные волосы, остренький носик, маленькое угловатое тельце. При желании ее можно было назвать миловидной, усмотреть нечто античное в мышином профиле, оценить прозрачную голубизну, которой наливались глаза в ясную погоду. Но для этого надо было хорошенько присмотреться. А чтобы присмотреться, надо было хотя бы зацепиться взглядом. А цепляться было особенно не за что, разве только за непропорционально большую для ее телосложения грудь, которую Татьяна катастрофически не умела достойно носить: ежилась и сутулилась.
«Не горбись! Никто замуж не возьмет», — сначала в шутку, потом с тревогой в голосе говаривала мать, вырабатывая в Татьяне стойкое отвращение к некоему Мужу, который в один прекрасный день явится на порог и, приценившись, возьмет ее жирной красной лапой. Как это случилось с Ольгой, едва она закончила школу. Пришел большой мрачный Юрик и увел ее из дома. Танька с сестрой жили дружно: благодаря маленькой разнице в возрасте у них было много общих интересов. Конечно, временами они дрались, как и полагается нормальным сестрам. Однажды старшая и более сильная Ольга протаранила Танькиной головой стеклянную дверь на кухню. В ответ Танька, отличающаяся более богатым воображением, изловчилась и надела той на голову кастрюлю с супом. Мать кричала, отец потрясал морским ремнем, а сестры отчаянно выгораживали друг друга, сваливая все на себя.
Танька скучала по сестре и ненавидела Юрика. Вообще-то любить его было особо не за что, так что Ольга в этом смысле оставалась для близких загадкой. «Он у тебя когда-нибудь улыбается?» — спрашивала мать частенько, на что Ольга неопределенно мычала. Но как-то пришла сияющая и показала затертую фотографию: Юрик в обнимку с себе подобным перед бутылкой водки и с болезненно перекосившимся лицом: «Вот». «Что — вот?» — заинтриговались домашние. «Улыбается!» — торжествующе провозгласила Ольга, ткнув пальцем в мужнин нос. Внимательно рассмотрев фотографию и даже оглядев обратную сторону, мать покачала головой: «Хорошо, что мало».
К тому времени, как Танька закончила школу, Ольга уже успела вернуться домой с фингалом под глазом и новорожденной дочкой на руках. Она была тощая и какая-то ободранная, вероятно, из-за неухоженной прически. Ребенок надрывался, до крови грызя пустую грудь, а Ольга вздрагивала от резких движений. Мать высоким даже для себя голосом отдала распоряжения всем домочадцам, ребенок был накормлен, старшая дочь уложена спать. Танька тогда подумала, как вождь пролетариата: «Мы пойдем другим путем».
Это было интересное время — начало девяностых. У всех откуда-то водились шальные деньги, мамы с папами побросали свои конторы и пошли торговать на рынок, а школьники обедали в ресторанах и ездили на такси. Дискотеки, правда, работали только до двенадцати. Доблестью считалось сделать как можно радикальнее наперекор старшим. Танька, воспитанная на строгих советских принципах, резко закурила, запила и постановила, что ждать замужества для лишения девственности — просто ересь. С ней согласились две школьные подружки: Алка Левкина и Светка Седова. В выпускной вечер, заранее сговорившись с тремя одноклассниками, они «сделали это» и торжественно напились. Не почувствовав ни приятных ощущений, ни особой боли, Танька хладнокровно отметила, что теперь вполне готова к вступлению во взрослую жизнь и, решительно отметя попытки своего первого партнера продолжить связь, без каких-либо проблем поступила в университет на иняз. Подруги же, войдя во вкус, не стали прерывать свои опыты по взрослению и только через год, немного успокоившись, поступили в медучилище.
Учась в университете, Танька пристрастилась к чтению философских трактатов и просмотру некоммерческих фильмов, что существенно затруднило ее общение с матерью и сестрой. Относительно легко ей было только с отцом, так как он не любил разговаривать, и с племяшкой — она еще не умела. Естественно, в таких условиях взгляды Таньки все чаще устремлялись подальше от дома, и она расслаблялась только в компании своих единомышленников, вернее, единомышленниц. Однако маме не нравилось Танькино выпадение из стереотипа нормальной девушки. Старшая дочь, на ее взгляд, была гораздо нормальнее, несмотря на несложившуюся семейную жизнь. Танька с огромным удовольствием возилась с маленькой Настеной и даже, грешным делом, полагала, что оказывает ей больше внимания, чем родная мать, которая выучилась на фармацевта, оформилась в коммерческую аптеку и пыталась устроить свою личную жизнь под чутким руководством подруг. Мать, понаблюдав как-то за идиллической сценой игры тетки с племянницей, заявила со свойственной ей хамоватой безапелляционностью: «Не надоело с чужими детьми возиться? Самой уж рожать пора!» После ряда таких заявлений Танька созвонилась со своей немецкой подружкой, которая незадолго до этого приезжала по студенческому обмену и жила в их семье, и беспардонно напросилась к ним на летние каникулы. Получив приглашение поработать нянечкой ее маленького братика, Танька отбыла из отчего дома, предварительно прослушав вопли матери о том, что «докатились, уже слугами давайте работать».