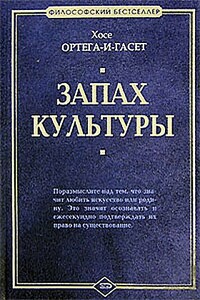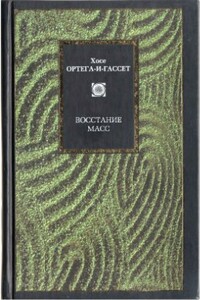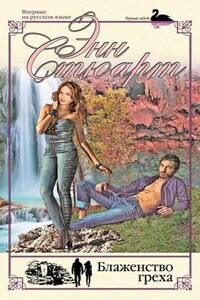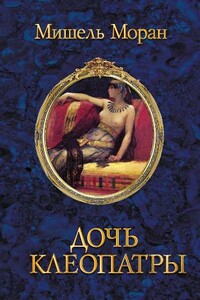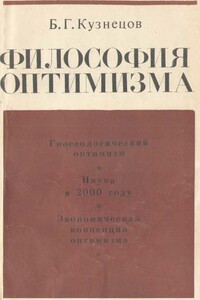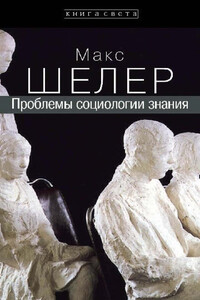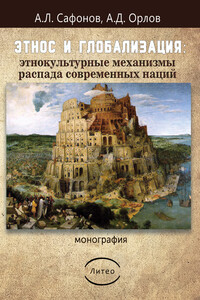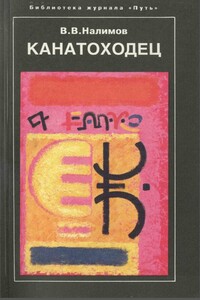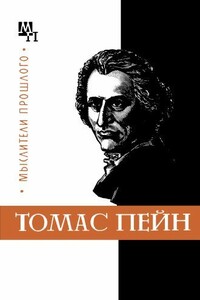Хосе Ортега-и-Гассет
Musicalia
I
Завсегдатаи концертных залов по-прежнему неистово рукоплещут Мендельсону и не перестают ошикивать Дебюсси. Новая музыка, и прежде всего та, что является новой по самой своей сути, - новая французская музыка остается непризнанной.
Поистине ее величество публика всегда ненавидит все новое просто потому, что оно новое. Это заставляет нас вспомнить о том, про что обычно забывают в наши дни: а именно, что все хоть сколько-нибудь ценное на земле было создано горсткой избранных вопреки ее величеству публике, в отчаянной борьбе с тупой и злобной толпой. Не так уж не прав был Ницше, измерявший достоинство человека тем, насколько он способен быть одиноким, то есть той духовной дистанцией, которая отделяет его от толпы. Полтора века повсеместно курили фимиам народным массам, и если мы сегодня возьмемся утверждать, что без немногих избранных личностей мир закоснеет в непроходимой глупости и пошлом эгоизме, то утверждение наше будет попахивать крамолой.
Сегодня ее величество публика освистывает Дебюсси так же, как вчера Вагнера. Не случится ли с первым то, что случилось со вторым? Сорок лет спустя публика все же отважилась аплодировать Вагнеру, и этой зимой Королевский театр едва выдержал натиск охваченного вагнерианским пылом племени меломанов. История повторяется. Лишь когда музыка Вагнера утратила новизну, когда почти и следа не осталось от весенней свежести ее юного и мощного обаяния, когда оперы композитора в руках ростовщика-времени превратились в унылые иллюстрации из трактата по геологии - скалы, гигантские хвощи и папоротники, рептилии и белокурые дикари, - лишь тогда толпа сочла уместным расчувствоваться. Неужели то же случится с Дебюсси?
Возможно, что и нет. Если все новое непопулярно, то есть явления, которые продолжают оставаться таковыми, даже несмотря на весьма почтенный возраст. Существует музыка, поэзия, живопись, научные идеи, нравственные доктрины, обреченные на девственную непознанность.
В определенном смысле можно говорить о целых культурах, не снискавших популярности.
Если мы сравним азиатскую культуру с европейской, то заметим, что в азиатской культуре нет, пожалуй, ни одного изначального мотива, который не был бы доступен одновременно простолюдину и эрудиту. Философия ученого индуса, по сути, ничем не отличается от философии неграмотного парии. Произведения китайских художников в равной степени волнуют мандарина и живущего подножным кормом бездомного кули. Старания, которые азиаты издавна прилагают, чтобы полярно противопоставить культуру простонародную и элитарную, лишь подтверждают в глазах стороннего наблюдателя их исконное тождество. Европейской же культуре никогда не было нужды намеренно подчеркивать это различие, так как оно всегда было самоочевидно. "Илиада" творение, с которого начала свой долгий путь западная литература, - было написано на искусственном, условном языке, на котором никогда не говорил ни один народ, языке, сложившемся в сравнительно узком кругу профессионалов рапсодов, и многие века дивная эпическая поэма пелась лишь на праздниках греческой знати. Греческая наука - первообраз европейского научного знания с самого начала выдвинула такие парадоксы, что толпа ipso facto[1] отказалась вступить в ее таинственные чертоги. Отсюда и укоренившаяся в простом народе по отношению к творческому меньшинству ненависть, враждебность, которая, как изжога, давала себя знать на протяжении всей европейской истории и совершенно неизвестна великим цивилизациям Востока.
Но степень популярности творений меньшинства внутри нашей культуры колеблется в зависимости от эпохи. Так, сейчас мы переживаем момент, когда непопулярность научного и художественного творчества резко возросла. Да и как могут быть популярны современная математика и физика? Идеи Эйнштейна, к примеру, могут быть поняты (не говорю уж - оценены) едва ли несколькими десятками умов на всей нашей планете.
Причина этого непонимания, на мой взгляд, представляет серьезный интерес. Обычно непонимание приписывают сложности современной науки и искусства. "Это так сложно!" - говорят, кругом. Если мы назовем сложным все, что нам непонятно, это, несомненно, будет верно; но в таком случае мы ничего не объясним. Если постараться быть более точным, сложным мы, как правило, называем все запутанное, неясное. Но в таком значении приписать чрезмерную сложность сегодняшней науке или искусству - неверно. Строго говоря, теории Эйнштейна в высшей степени просты, по крайней мере намного проще теорий Кеплера или Ньютона.
Думаю, что музыка Дебюсси как раз и относится к разряду явлений, обреченных на непризнанность. Все заставляет предположить, что она разделит судьбу сходных течений в поэзии и живописи. Эта музыка - младшая сестра поэтического символизма Верлена и Лафорга и импрессионизма в живописи. Что ж, Верлен (так же как для нас - Рубен Дарио) никогда не сравняется в популярности с Ламартином или Сорильей, а Клод Моне всегда будет иметь меньше поклонников среди простых смертных, чем Мейсонье или Бугеро. И все же мне кажется бесспорным, что искусство Верлена гораздо проще, чем искусство Виктора Гюго или Нуньеса де Арсе, так же как импрессионисты несравненно проще Рафаэля и Гвидо Рени.