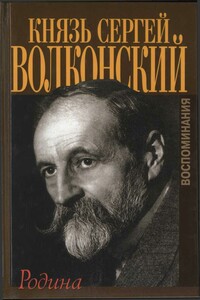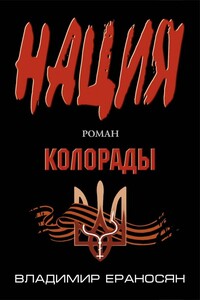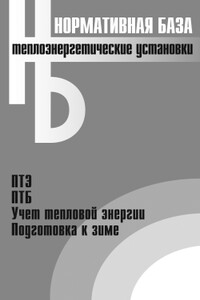Волконский С. М. Мои воспоминания: В 2 т. М.: Искусство, 1992. (Театральные мемуары). Т. 1. Лавры. Странствия / Предисл. М. И. Цветаевой. 399 с.
Марина Цветаева. Кедр. Апология. О книге кн. С. Волконского «Родина» 5 Читать
Лавры 34 Читать
Росси. Сальвини. Любительские спектакли в Петербурге.
Памяти Алексея Стаховича. Андрие.
Несколько впечатлений от Comйdie Franзaise 36 Читать
Петербургская газетная критика. Театральный муравейник.
Савина. Давыдов. Варламов. Комиссаржевская. Вопросы техники 54 Читать
Памяти Модеста Чайковского. Памяти Николая Николаевича Врангеля 67 Читать
Немецкий театр. Бассерман, Моисси, Рейнгардт. Мейнингенцы.
Венский Burgtheater; Вольтер, Зонненталь, маленькая Hohenfels. 82 Читать
Итальянский театр. Итальянский зритель. Сицилийская труппа Грассо.
Новелли. Ирвинг. Цаккони 98 Читать
Дузе. Сара Бернар. Режан. Парижский смех 108 Читать
Музыка в детстве и в юности. Экснер. Юлия Федоровна Абаза.
Антон Рубинштейн. Александра Валериановна Панаева.
Алиса Барби. Фелия Литвин. Г‑жа Решке. «Тысяча вторая ночь» 130 Читать
Оперные впечатления 153 Читать
Жак-Далькроз. Дорны. Вольф Дорн 166 Читать
Хеллерау 178 Читать
Странствия 191 Читать
Италия. Альпы. Итальянский город. Флоренция. Итальянская вилла.
Карло Плачи 193 Читать
От Испании до Флоренции. Портреты ушедших людей 206 Читать
Памяти герцогини Тэк. Коронованные встречи 225 Читать
Старый медальон 243 Читать
Америка 288 Читать
Конгресс религий в Чикаго 315 Читать
Острова 342 Читать
Рим 376 Читать
Подходить к книге кн. Волконского «Родина» как к явлению литературному — слишком малая мера. Эта книга прежде всего — летопись. И не потому, что он пишет о «летах мира сего», — кто не писал воспоминаний? Основная особенность летописи — то освещение изнутри внешних событий, тот вопрос, который она им ставит, тот ответ, который из них слышит. Летописец далеко не последнее лицо в летописи: им она жива. В этом строжайшем смысле слова книга Волконского «Родина» наряду с «Wahrheit und Dichtung»[1] Гете — истинная летопись: века и духа.
Вымышленные книги сейчас не влекут. Причина ясна: после великой фантасмагории Революции, с ее первыми-последними, последними-первыми, после четырехлетнего сна наяву, после черных кремлевских куполов и красных над Кремлем знамен, после саженного: «Господи, отелись!» на стенах Страстного монастыря, после гробов, выдаваемых по 33 талону карточки широкого потребления, и лавровых венков покойного композитора Ск‑на, продаваемых семьей на рынке по фунтам, — нас, кажется, уже ничем не потрясешь, разве что простой человеческой правдой: сущностью единой и неделимой. Такой книгой и является книга Волконского «Родина»: книга глубочайшей человечности. «Глубочайшей», впрочем, для удовлетворения слуховой привычки, я бы «глубочайшей» здесь заменила «высочайшей». Человечность не только глубь, — и высь. Дерево не растет в воздухе, чту корни, но не ошибка ли русских в том, что они за корнями («нутром») не только забывали вершину (цветение), но еще считали ее некоей непозволительной роскошью. В корнях легко увязнуть: корни — и родниковые воды, да, но и: корни — и черви. И часто: начав корнями, кончают червями. И еще мне хочется сказать: корни (недра) — не {6} самоцель. Корни — основа, ствол — средство, цвет (свет) — цель.
Корни — всегда ради.
Итак, книга «Родина» — древо высочайшей человечности. Корень — рост — вершина, все налицо, — и какое цветение! Страсть к высотам, так бы я определила ее главенствующую страсть, но еще вопрос: дух ли тянется ввысь, или высь его тянет. Склонна думать, что кроме тяги земной существует еще и тяга небесная.
Кстати, очаровательное соответствие: первое воспоминание — конное. Автору три года, его посадили на коня, и кто-то из старших ведет коня в поводу по кругу. — «Ну как?» — И сдержанное, вместо хваленой ребяческой откровенности (рёва!): «Ничего… Немножечко… неловко!» Да, спору нет; пешему «ловчей», — особенно с непривычки. И смотреть на мир с коня — не только услада, но и ответственность, уже потому хотя бы, что ты на целый конский рост выше (видней!) остальных. «Конный» — это то же, что титул, что дар, — этим нужно уметь владеть и за это нужно уметь ответить.
Ну, не прелестное ли вступление в книгу, этот трехлетний всадник, на красном песке садового круга, — такой воспитанный, такой бестрепетный, такой невинно-важный в сознании устремленных на него глаз! И — как я благодарна автору за то, что он не заставляет коня сворачивать в конюшню, при громком хохоте зрителей и реве седока! И — как я вообще благодарна автору за его детство! Ни нянек, ни елок, ни лошадок, вместо лошадки — сразу конь. (Так, всю жизнь: без штекенпфердов, без эрзацев!)
О, разливанные пеленочные моря и реки наших русских классиков! Как вас по семицветной радуге Духа, и не заметив даже, миновал автор! Детское вне ребяческого, младенческое вне пеленочного, юношеское вне юбочного, — найдите еще такую книгу! Особенность книги: упор, мускул, костяк. — Сердце, но сердце в латах! — Никаких развороченностей, никаких исповедей: уж скорей отповедь, чем исповедь! Вместо славянской словесной и телесной распущенности — стройное распускание цветка на твердом стержне. Не ищите в его книге «интимности». Это, вообще, низкое слово. Но,