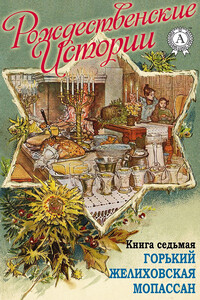А.М.Горький
Могильщик
Когда я подарил кладбищенскому сторожу Бодрягину давно желанную им гармонику, он - одноглазый, лохматый - крепко прижал правую свою руку к сердцу и, сияя радостью, закрыв свой одинокий, милый, а порою жуткий, глаз, сказал:
- Эх-х...
Задохнулся от возбуждения, потряс плешивой головою и одним дыханием произнес:
- Умрете вы, Лексей Максимыч, ну, уж я за вами поухаживаю!
Он брал с собою гармонику даже тогда, когда рыл могилы, и, уставая работать, поигрывал любовно и тихонько польку. Он иногда называл ее с французским "прононсом" - "Трен-блан", а иногда "Дрянь-брань". Это была единственная пьеса, которую он умел играть.
Случилось, что он заиграл в то время, когда неподалеку от него священник служил панихиду. Кончив служить, он подозвал Бодрягина и стал ругать его:
- Усопших оскорбляешь, скот! Бодрягин жаловался мне:
- Конечно, это я нехорошо сделал, а все-таки: как он может знать - что покойнику обидно?
Он был уверен, что ада - нет; души хороших людей отлетают после смерти тела в "пречистый" рай, а души грешников, оставаясь в теле, живут в могилах до поры, пока тело не сгниет.
- После того земля выдыхает душу на ветер и ветром разносит ее в бесчувственную пыль.
Когда зарыли в могилу труп любимой мною шестилетней девочки Николаевой и все разошлись с кладбища, - Костя Бодрягин, подравнивая глиняный холмик могилы ударами лопаты, утешал меня:
-Ты, друг, не горюй! Может, на том свете иными словами говорят, лучше нашего-то, веселее. А может, и не говорят ничего, а только на виловончелях играют.
Музыку он любил до смешного и опасного самозабвения: услышит вдали звуки военного оркестра, шарманку или рояль и тотчас весь насторожится, вытянув шею в направлении звука, заложив руки за спину, замрет, широко открыв свой темный глаз, как будто слушая глазом. Иногда это случалось с ним на улице, дважды его сшибали лошади и многократно били кнутами извозчики, когда он, очарованный, стоял, не слыша криков' предостережения, не видя опасности. Он объяснял:
- Услышу музыку и - словно на дно речное мырну! Он "путался" с кладбищенской нищей Сорокиной, пьяной бабой, старше его лет на пятнадцать, - ему было уже за сорок.
- Зачем она тебе? - спросил я.
- А - кто ее утешит? Некому, опричь меня. Я же люблю утешать самых безутешных. Своего горя у меня нет, вот я чужое и одолеваю.
Мы говорили, стоя под березой, в потоках неожиданно хлынувшего июньского ливня.
Костя с наслаждением ежился под ударами дождя о его череп, голый, угловатый, и бормотал:
- Мне приятно, когда мое слово слезу сушит... У него был, видимо, рак желудка, он выдыхал гнилой запах трупа, не мог есть, страдая рвотой, но работал бодро, ходил по кладбищу весело и умер за картами, играя с другим сторожем в дурачки.