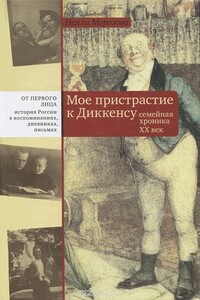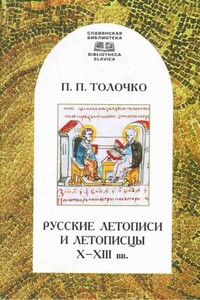Телефон с утра звонил не переставая.
На киностудии ждали приезда начальства для просмотра готового к сдаче фильма и получения «последних» поправок, которые обычно оказывались не последними. Фильм был иностранный, дублированный.
Режиссеры дубляжа, как и вообще режиссеры (с той разницей, что последние несли ответственность за «свой» фильм), в то достославное время ходили по острию ножа. Неудивительно, что они не только не противились, а желали начальственного просмотра. Они искали соучастников в неведомом еще преступлении.
У администрации был свой интерес: квартальная премия за выполнение плана.
Вот почему телефон звонил не переставая.
Разные люди — кто-нибудь один боялся назойливостью навлечь на себя гнев — спрашивали безнадежными голосами, скоро ли мы приедем; просмотровый зал заказан на одиннадцать, а сейчас уже половина первого… Шофер машины, которая тоже ждала часа два, звонил из проходной… Я несколько раз снимала трубку внутреннего телефона и звонила Д., заместителю начальника главка, с которым должна была ехать «принимать» фильм, но секретарша отвечала: «Занят, как освободится — позвоню».
Наконец, режиссер прибег к последнему, жалкому аргументу — время истекает, зал отнимут для просмотра другого фильма. Это было смешно — каждому ясно: когда начальство приезжает, останавливают демонстрацию другого фильма, из зала выгоняют всех, и начальство смотрит тот фильм, какой ему угодно.
Но именно смехотворность аргумента показала степень отчаяния режиссера. Я тоже изнемогла от бессильной злости, от равнодушия нашего «гиганта мысли» ко многим людям, ожидающим его, от того, что у меня накопилось много дел и я ни за одно не могла приняться.
В приемной Д. было полно народу. Секретарша предостерегающе подняла руку, но я толкнула дверь.
Предо мной предстала знакомая картина: в просторном кабинете за массивным столом с неизбежным зеленым сукном, над множеством телефонов и бумаг возвышался шеф и смотрел остановившимся взглядом прямо перед собой. Он был в кабинете один. Шел мыслительный процесс.
Этот человек раньше был секретарем парторганизации нашего министерства, а потом его назначили заместителем начальника главка художественных фильмов. Непосредственно руководить киноискусством. Правда, в качестве одной из инстанций, но — неминуемой.
Он говорил, что закончил два института, какие именно — установить как-то не удавалось. Вокруг же поговаривали, что он окончил только десятилетку где-то в провинции.
В том, что он справится с новым делом, Д., видимо, не сомневался. Раз назначили — справится: сверху виднее.
Его способность нанизывать округлые фразы, оснащенные искусствоведческими терминами, не имеющие абсолютно никакого смысла, была поразительна. Кажется, очень скоро все поняли, насколько гол король, и просто играли в игру с известными правилами: авторы фильма вдумчиво и уважительно выслушивали белиберду, благодарили за глубокие замечания и с надеждой смотрели на редакторов, чтобы те перевели эту белиберду на язык недвусмысленных министерских указаний.
Беда была, когда в этом затуманенном мозгу возникала мысль. Она погружала его в глубокий транс. Напряженное лицо, остановившиеся глаза, никакой реакции на обращенные к нему вопросы. В тишине кабинета, казалось, был слышен скрежет жерновов, которые тяжело ворочались, осуществляя мыслительную работу. В такой же транс он впадал при необходимости принять решение.
Я нарушила мыслительный процесс грубо, без подготовки:
— Если мы не посмотрим картину сегодня, ее не успеют выпустить в этом квартале, студия не выполнит план, и все останутся без премии!
Пустые, беззащитные глаза. Но через миг в них появился проблеск. Мне показалось, что я достигла цели. Шеф протянул какую-то бумажку:
— Вот посмотрите…
Я взяла ее, думая, что это запрос студии, на него можно будет ответить потом — главное, заманить его в машину, наконец, выехать…
Но едва я взглянула на первые строки, как в глазах качнулась темнота, и надо было сделать усилие, чтобы дочитать.
В бумажке говорилось, что Нелли Александровна Морозова (это я) недавно получила от министерства комнату в Москве, а, между тем, отец ее — ВРАГ НАРОДА, и она его никогда публично НЕ ОСУДИЛА, что муж ее — КОСМОПОЛИТ, окружена она друзьями-космополитами и полученную комнату превратила, таким образом, в ПРИТОН космополитизма.
Все это было изложено на клочке очень скверной бумаги, пожелтевшей от времени (откуда ее извлекли, непонятно, но именно так должна выглядеть бумага, используемая для анонимок), крупным, спотыкающимся машинописным шрифтом и умело замаскировано неграмотными оборотами — как раз в них непостижимо таилась угроза.
Жаль, я не запомнила дословный текст, он, несомненно, был написан мастером анонимного стиля.
Я была ошеломлена внезапным вторжением пакости. Если бы «гигант мысли» протянул мне эту бумажку с такими примерно словами: «Нелинька, вот поступила анонимка на вас, к сожалению, я должен ее разбирать…» Но тогда бы он не был «гигантом». Что касается фамильярности обращения, то он всегда называл меня так до этой минуты: я была самым молодым редактором, а фамильярность была своего рода щегольством в министерстве, руководящем кино. Она приобщала чиновников к богеме, они вроде бы меньше чувствовали себя чиновниками.