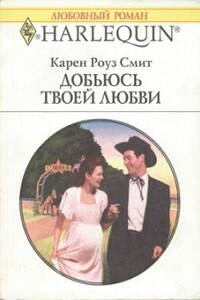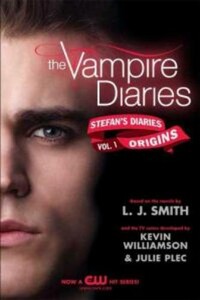Ирина Ермакова. Седьмая. — М.: Воймега, 2014.
Ирина Ермакова владеет весьма элитарным искусством выстраивать из стихов целое: чтобы оценить всю его полноту и глубину, книгу стихов следует пережить, перечитать медленно, внимательно и не один раз. Кто у нас сейчас так читает — не знаю. Во всяком случае, в последнее время мне не попадалось ни одной критической статьи, ни одной рецензии, где затрагивался бы вопрос не только о структуре книги в целом, но и о вытекающей из неё поэтической идее. А ведь составление книги — искусство объёмное, подобное архитектуре, поэтому говорить только о поэтике, языке автора, влияниях и шлейфах — значит не видеть всего здания, а обсуждать особенности кирпичей или, в крайнем случае, достоинства отдельных арок и контрфорсов.
В этом смысле Ирина Ермакова — поэт в какой-то мере непрочитанный. Тому доказательством, например, служит реакция на её предыдущую книгу «Алой тушью по чёрному шёлку». По-своему прекрасная рецензия Елены Погорелой[1] абсолютно точно говорит о прививке к русскому языку элементов японской культуры, о сапфических мотивах, культурном сквозняке, возвращении к условности, но совершенно не касается того, что в стихотворном пространстве создается новая целостность — книга построена как эротический роман с двумя героями, со своей завязкой, кульминацией и развязкой, с развёрнутым во времени трагическим сюжетом. Не увидела никакого сюжета и другой рецензент — Мария Галина. С её точки зрения это всего лишь «мягкая насмешка, обращенная к общекультурному представлению о „японском“», а то и вовсе «прелестная „валентинка“»[2].
Об особенностях поэтики Ирины Ермаковой и высочайшем уровне версификации уже неоднократно писали, как писали и об её постоянных отсылках к античности, естественно вплетающихся в живую ткань речи — но всё это только «кирпичики». У книги стихов другой масштаб: автор возводит конструкцию, которой предназначено быть моделью мира. При этом нельзя забывать, что Ермакова — поэт весьма герметичный, избегающий прямых высказываний, моралей, объяснений. О стихах подобного рода очень точно выразился Леонид Костюков: «…есть специфическое содержание поэтического высказывания — нечто невербальное: настроение, ощущение, возможно — мелодия, возможно — зыбкий образ или контур»[3]. Такие стихи сложны для понимания, в них нет кончика нитки, потянув за который, мы размотаем весь клубок, но зато присутствуют слова-маркеры, позволяющие догадаться, в какую сторону на этот раз происходит работа души. Трудность интерпретатора в том, что большинство стихотворений Ермаковой невозможно «рассказать» на обычном языке, а те ассоциативные связи, которые включаются при чтении, у разных читателей оказываются разными.
«Седьмая» построена на магии числа семь. Она у автора седьмая по счету, в ней семь глав (не правда ли, не самое рядовое дело — «главы» в поэтической книге?), в каждой главе по семь стихотворений (кроме последней, но об этом позже). Что это — игры с фольклором, где семь — сказочное, счастливое число? Или с физикой — семь цветов спектра? Ответа, естественно, нет. Каждую «семёрку» завершает набранное курсивом стихотворение, имеющее сложную функцию — это квинтэссенция сказанного, комментарий, подсказка и мостик к следующей главе. Их шесть. Вся непростая конструкция оконтурена «рамкой» из вступления и послесловия (почти как сказочный зачин и концовка), к сюжету прямого отношения вроде бы не имеющих.
Плавающий смысл вступительного стихотворения допускает присутствие нескольких маркеров, вот первые же строки: «Как я жила до сих пор, ничего не зная, вечно за целый свет принимая части». Дальше идут почти невербализуемые ощущения: вспышка — огненный полёт в чью-то ладонь (на тот свет?) — и спуск на этот.
Ермакова разворачивает поэтический сюжет своей книги в мифологическом пространстве — как путешествие «на ту сторону» с целью найти «то, не знаю что» и вернуться обратно — не просто живой и невредимой, но обогащённой чем-то новым и ценным. Конкретная цель просматривается — найти возможность соединения света, разбитого на части, в одно целое. Отметим, кстати, полисемантику образа: свет — это, с одной стороны, физическое понятие, поток фотонов, с другой — весь мир, а с третьей — метафора добра.
Глава первая так и называется — «Части света». Тему разбитости, фрагментации высвечивают здесь несколько ключевых мотивов и образов, мрачноватых и дискомфортных. Пугают иероглифы-кузнечики, горохом сыплющиеся из книги: «Никому ничего объяснить невозможно. / Все — другие. Даром, что так похожи». Холодит до мурашек «малютка-смерть», что изначально живёт и растёт в каждом человеке. Тоскует душа, вынужденная живописать «подробности железныя», а то и вовсе сбегающая из тела, но узнавшая, что и «там» ничуть не лучше. Ключевое стихотворение здесь — «Перекресток». «Двойного зренья фокус точный» позволяет автору не только ощущать себя на перекрёстке двух миров, но видеть их «сдвоенное чудо». Концепция, кстати, противоположная «двоемирию» романтизма. У Ермаковой миры пересекаются, ей видны одновременно «и горний ток и дольний рёв», но в отличие от пушкинского пророка у автора своя позиция — вовсе не «глаголом жечь». Но что? В итоговом стихотворении этой главы улетают по воздуху люди — как журавлиный клин. «И чтоб уцелело вернулось осталось / Давай их любить». Это первый шаг к тому, чтобы собрать разрозненные части.