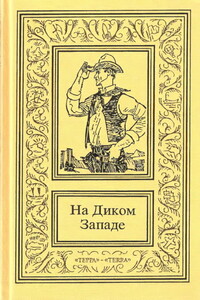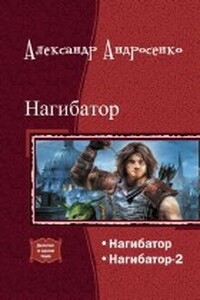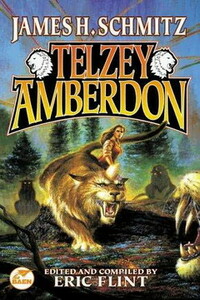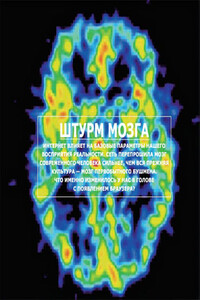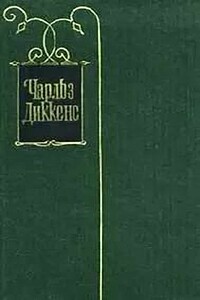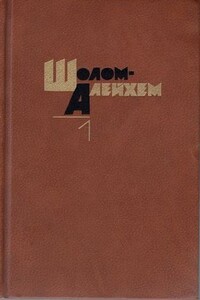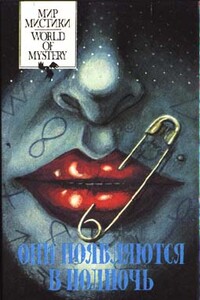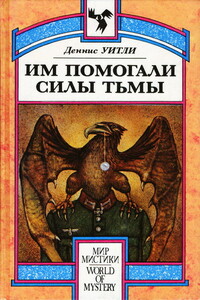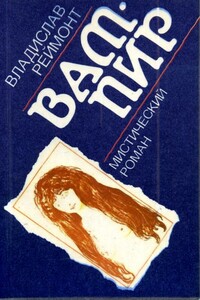Арфа
К вопросу о вере в привидения
Некий секретарь со своей молодой женой проводил безмятежные дни медового месяца. Их союз скрепило печатью не мимолетное увлечение, не корыстный расчет, а пылкое и испытанное временем чувство. Они были уже давно знакомы, но неожиданная задержка с назначением Зельнера — молодого жениха — на службу заставила его отложить на более поздний срок исполнение своих желаний. Наконец он получил свидетельство о производстве в чин, и в ближайшее воскресенье верная ему девушка вошла в его новую квартиру уже как хозяйка дома и жена. После длинных и утомительных семейных праздников и поздравлений они смогли, наконец, насладиться прекрасными вечерами вдвоем, вдали от посторонних глаз. Радужные планы на будущее, флейта Зельнера и арфа Жозефы заполняли эти блаженные часы наедине, которые пролетали для любящих, как одно короткое мгновение, и прекрасная гармония звуков, казалось, предвещала безоблачное счастье в их совместной жизни. Однажды вечером, когда они слишком долго наслаждались музыкой, Жозефа вдруг пожаловалась на головную боль. Она скрыла от своего озабоченного мужа утренний приступ, а лихорадка, казавшаяся сперва незначительной, в результате душевного подъема и напряжения чувств, вызванного игрой, резко усилилась. Кроме того, у нее еще с детства были слабые нервы. Будучи не в силах дальше скрывать свое состояние, она пожаловалась мужу, и Зельнер, испугавшись, послал за врачом. Тот пришел, но, не усмотрев в этом ничего серьезного, пообещал ей к утру полное выздоровление. Однако после крайне беспокойной ночи, проведенной ею в бреду, врач застал бедную Жозефу в тяжком состоянии и со всеми симптомами нервной лихорадки. Он употребил все средства, но с каждым днем Жозефе становилось все хуже. Зельнер словно обезумел от горя. На девятый день Жозефа сама почувствовала, что ее слабой психике не справиться с этой болезнью. Еще раньше сказал об этом Зельнеру врач. Чувствуя, что часы ее сочтены, она со спокойной покорностью приняла свою судьбу. «Дорогой Эдуард! — обратилась она к мужу, последний раз прижимая его к груди. — С грустью я покидаю эту прекрасную землю, где мое сердце встретило тебя и вместе с тобой — наивысшее счастье. Но если мне и не суждено было насладиться сполна счастьем в твоих объятиях, то пусть любовь твоей Жозефы, как добрый гений, сопровождает тебя повсюду до тех пор, пока мы снова не встретимся наверху!» Сказав это, она уронила голову на подушки и тихо отошла. Это случилось около девяти часов вечера. Трудно передать, как тосковал Зельнер: он не хотел больше жить; страдания настолько подорвали его здоровье, что когда после многих недель болезни он поднялся, то молодые силы покинули его тело. Он погрузился в мрачные раздумья и угасал буквально на глазах. Отчаяние сменилось безысходной тоской, а все его воспоминания о любимой окрасились тихой печалью. В комнате Жозефы он оставил все так, как было при ее жизни. На столике для шитья по-прежнему лежала какая-то незаконченная работа, а в углу в неприкосновенности покоилась арфа. Каждый вечер Зельнер с флейтой совершал паломничества в эту святыню своей любви и, как в былые дни, стоя у окна, в исполненных грусти звуках изливал свою тоску по душе умершей возлюбленной. Так он стоял однажды в комнате Жозефы, углубившись в свои воспоминания. Через открытое окно он чувствовал дыхание ясной, лунной ночи, а перекличка охранников на башне близлежащего замка возвещала о наступлении девятого часа. В это время его игре стала тихо вторить арфа, словно струны ее колебало чье-то призрачное дыхание. Крайне удивившись, он прервал игру на флейте — и одновременно замолчала арфа. Дрожа всем телом, он заиграл любимую песню Жозефы — и тут же громче и увереннее зазвучал аккомпанемент струн, а затем их звуки слились в совершенной гармонии.
Охваченный радостным возбуждением, он упал на пол и расставил руки, словно пытаясь обнять невидимую душу любимой. Внезапно его словно обдало теплым дыханием весны, и над ним пролетела бледная, светящаяся тень. В лихорадочном восторге он воскликнул: «Я узнаю тебя, священная тень моей блаженной Жозефы! Ты обещала окружить меня своей любовью и сдержала свое слово: я чувствую твое дыхание, твои поцелуи на своих губах; я чувствую себя в объятиях твоего преображенного облика». В приливе блаженства он снова поднес к губам флейту — и арфа опять зазвучала, но уже тише, все тише, пока, наконец, ее почти неслышные звуки не растаяли в воздухе. Потрясенный до глубины души этой призрачной вечерней встречей, он долго не мог заснуть, а во сне продолжали непрерывно звучать далекие мелодии арфы.
На следующий день он встал намного позже обычного, измученный ночными химерами и со странным предчувствием скорой смерти и долгожданной победы души над плотью. Охваченный невыносимой тоской, он едва дождался вечера, который провел затем в комнате Жозефы, веря в ее приход. К тому моменту, когда часы били девять, он был уже полностью погружен в свои светлые грезы, навеянные звуками флейты, и едва последний удар часов смолк, зазвучала арфа: сначала — чуть слышно, а затем — все громче и громче, пока наконец не задрожала в громких, ликующих аккордах. Как и в прошлый раз, едва только замолчала флейта, как перестали слышаться призрачные звуки; бледное, светящееся облачко пролетело над ним, и он, не помня себя от блаженства, смог лишь крикнуть ему вслед: «Жозефа! Жозефа! Возьми меня в свои преданные объятия!» Как и прошлой ночью, арфа прощалась с ним тихим, звенящим звуком, постепенно затухавшим на длинном, дрожащем аккорде. Еще больше, чем в прошлый раз, потрясенный событием последнего вечера, Зельнер неверной походкой возвратился в свою комнату. Его преданного слугу испугал вид господина, и он, несмотря на запрет, поспешил к врачу — старому другу Зельнера. Придя в дом, тот застал его в сильнейшем приступе лихорадки, протекавшей с теми же симптомами, что и раньше у Жозефы — с той только разницей, что у Зельнера они были намного ярче выражены. К ночи лихорадка заметно усилилась, и он в бреду беспрерывно что-то говорил о Жозефе и арфе. К утру ему стало легче, поскольку организм прекращал бороться, и все явственнее ощущал он скорую развязку, хотя доктор и слышать не хотел ничего об этом. Больной признался другу в том, что с ним происходило в течение тех двух вечеров, но все попытки здравомыслящего, рассудительного мужчины переубедить Зельнера оказались безрезультатными. С наступлением вечера он стал заметно слабеть, пока, наконец, дрожащим голосом не попросил, чтобы его перенесли в комнату Жозефы, что и было исполнено. Очень оживившись, он осмотрелся по сторонам, всплакнул, вспоминая напоследок свои счастливые дни с Жозефой, и со спокойной уверенностью в голосе предсказал свою смерть в девятом часу. Незадолго до решающего момента он, попрощавшись со всеми, попросил оставить его одного. Все вышли, кроме врача, который наотрез отказался покидать его.