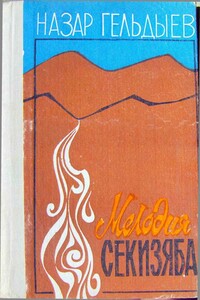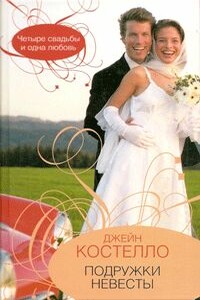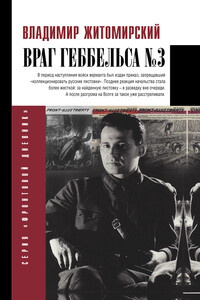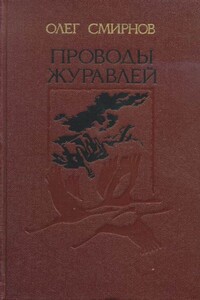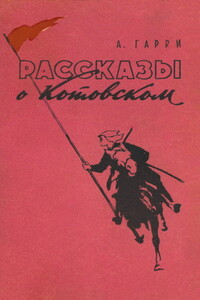Первое, что я помню, это могучий Копетдаг, у подножия которого прилепился наш аул, где я родился и вырос. Я хорошо помню, что он раньше других аулов прогревался первыми утренними лучами солнца; а когда солнце пряталось за горой, раньше других погружался в тень, которая росла на глазах, становясь всё больше и больше, пока не охватывала, казалось, всю землю.
И ещё я помню Секизяб, реку, что питала осе вокруг. Никто не мог сказать точно, где её истоки. Родившись высоко в горах, она, казалось, вырвалась из самой груди Копетдага и, подобная могучему дереву с беспорядочно разбросанными, переплетёнными ветвями, прихотливо вилась на равнине, разбиваясь на большие и малые рукава, которые должны были напоить не только зелёную бахрому нашего Янги-Кала, привольно раскинувшегося по берегам Секизяба, но ещё и других аулов, лежавших дальше, вниз по течению.
Эти рукава и арыки, отходящие от рукавов, тянулись далеко во все стороны, охватывали луга Тилки, посёлка к востоку, от нашего аула, а на западе доходили даже до Геок-Тёпе, и ещё дальше, до села Совут-ли. И надо ли говорить, что при первой же возможности, все мы, от мала до велика, устремлялись к воде и купались до тех пор, пока не становились синими от холода. Мы купались в арыках, мы купались в рукавах Секизяба, мы купались в бассейне, который был специально построен у плотины близ электростанции, которая давала ток всему району. Но, конечно, лучше всего было купаться в том месте реки, где она ещё не делилась на рукава, там, где ледяная зелёная вода с шумом неслась по склону. Вы знаете такую игру — балакмунди? В неё играют так; берут штаны, крепко-накрепко стягивают их верёвкой у пояса, потом засовывают в воду, а когда они хорошенько промокнут, надувают через штанины, так что получался огромный пузырь; и вот на этом-то пузыре, из которого медленно выходил воздух, мы и неслись вниз по течению в стремительном ревущем потоке, стараясь заплыть как можно дальше. Это было просто здорово, если бы не одно обстоятельство: иногда приходилось возвращаться, неся штаны в руках, вернее то, что от штанов оставалось. И матери наши, как нам казалось, ругали нас даже после того, как мы проваливались в беспробудный мальчишеский сон. И их можно было понять, наших матерей — ведь для игры в балакмунди, что в буквальном переводе звучит как «сядь на штаны», годились только очень хорошие, плотные, иначе говоря, почти что новые брюки, которые очень быстро превращались просто в ветошь.
А накупавшись, мы шли ещё дальше, вверх по течению, к началу ущелья. Мы несли с собой удочки и долгими минутами сидели у воды, затаив дыхание. И вот, почувствовав, как дёрнулась леска, ты подсекаешь, и огромная рыбина, сверкая серебром, подпрыгивает у твоих ног. В то время нам казалось, что центр мира — это и есть наш аул, и что самое большое — в нашем ауле, и Секизяб, мы были в этом уверены, — самая огромная река на свете, ну, и рыбы в ней, конечно, самые крупные тоже. Да и могли ли мы думать иначе о нашей реке, если мы не видали ничего другого? Даже арык, проходивший в сторону Тилки, мы гордо называли Большим арыком. А что — ведь даже через арык не всякий мог перепрыгнуть, не говоря уже о Секизябе, который не шёл ни с каким арыком ни в какое сравнение. Даже в самом узком месте Секизяба только один мальчик из всей округи мог его перепрыгнуть. Хабет — так звали этого мальчика. Он учился со мной в одном классе, и мы прозвали его Кузнечиком из-за того, что он вечно прыгал. Никто и не мечтал с ним сравниваться в прыжках; когда он разбегался и прыгал, то, казалось, он просто летел по воздуху, всё дальше и дальше, и мне всегда казалось, что если бы он стал заниматься этим серьёзно, то мог бы стать великим спортсменом. Но сам Хебет хотел стать трактористом — и стал им… но это уже другая история.
Да, Секизяб! Он навсегда в моей памяти. Мы выросли на его берегах, мы пили его воду, мы питались плодами, вырастить которые было бы немыслимо, не будь Секизяб рядом — и разве таким уж преувеличением было бы сказать, что он вспоил нас и вскормил, подобно родной матери — а разве кто-нибудь может забыть родную мать? И песни пел он словно мать у колыбели. Конечно, если только не сидеть у самого водопада — там уж никакой песни не было, там стоял такой грохот, что хоть в уши кричи — ничего не услышишь. Зато, если ты садился на берегу, где вода текла спокойно, она начинала тут же баюкать тебя задушевной, никогда не затихающей и не повторяющейся мелодией. И если ты закрывал глаза, то уже через минуту тебе начинало казаться, что эта музыка, от которой щемит сердце, создана великим Мыллы-ага или известным всей Туркмении Тачмамед-ага; прислушавшись, ты узнавал песни Сахи Джапарова и Шихдурды-бахши, которые сменялись напевами тростниковой дудки Ата Кора, а след за этим ты слышал, любимые народом песни Байлы Куле. Но разве это удивительно? Ведь все они — и Мыллы-ага, Тачмамед-ага, и другие — все они родились здесь и так же сидели некогда у неумолчно поющей воды; так почему бы не предположить, что и сладким напевам своих дутаров и туйдуков они не выучились у вечно молодого Секизяба, ровно как и песням, которые прославили их по всей стране. Ибо Секизяб со свойственной ему щедростью отдал им всё, чем он владел, не требуя взамен ничего. Послушайте-ка ещё и ещё раз мелодии Мыллы-ага, послушайте их, закрыв глаза, и вы сами увидите, насколько напоминают они природную мелодию струящегося потока, мелодию, созданную нашим многозвучным и певучим Секизябом, чья прозрачная вода своею сладостью превосходит шербет…