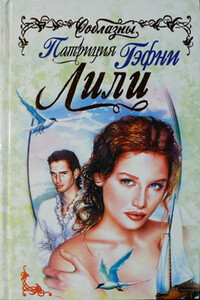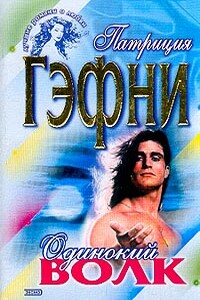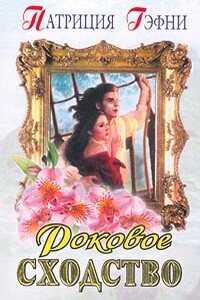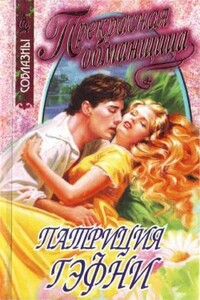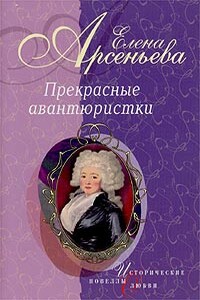Лорда д’Обрэ было трудно любить. Даже на смертном ложе.
«Господи, дай мне терпения и смирения», – молил преподобный Кристиан Моррелл, работа которого как раз в том и заключалась, чтобы любить вещи, для любви непригодные. Склонившись над кроватью, но не касаясь ее – старый виконт, хотя и был тяжко болен, по-прежнему приходил в ярость, когда кто-нибудь кроме врача подходил к нему слишком близко, – Кристи спросил, не угодно ли его светлости причаститься.
– Что? Прямым ходом на небеса? Как, по-твоему, викарий, попаду я на небеса? А? Думаешь, я… – Тут он задохнулся; его пергаментно-желтое лицо посинело, из горла вырвался булькающий свист. Он был уже слишком слаб, чтобы кашлять и только судорожно глотал воздух, пока спазм не прошел. Затем, обессиленный, замер, безвольно уронив руки на впалую грудь.
Кристи снова откинулся на высокую спинку стула, который придвинул к кровати так близко, как только позволил старик. Масляная лампа сбоку от ложа не могла рассеять сумрак этой огромной спартанского вида спальни; его глаза чересчур напрягались, когда он пытался читать свой молитвенник. Снаружи, за тяжелыми шторами, сияло полуденное солнце. Девонширская весна шествовала во всем своем блеске и великолепии. Но даже сама мысль о мире живой жизни казалась здесь чем-то фривольным, плодом разыгравшегося воображения. Быть может, за окнами сейчас пели жаворонки, жужжали насекомые, цокали белки в побегах плюща… Здесь же, в спальне больного виконта, Кристи слышал лишь тиканье часов в своем собственном кармане.
«Здесь бы должен сейчас сидеть доктор Гесселиус», – не удержался он от досадливой мысли.
– Пошлите за мной, если я вдруг понадоблюсь, хотя это довольно сомнительно, – заявил ему доктор два часа назад в этой самой комнате. – Никаких болей у него сейчас нет – в этом возрасте люди обычно уже ничего не чувствуют. Он навряд ли протянет до завтра; старина Эдуард теперь полностью в ваших руках, преподобный.
Кристи только кивнул в ответ, хладнокровно, степенно – как если бы эта перспектива совсем не пугала его. В мечтах он видел себя рассудительным, внушающим уважение священником, который всегда помнит, что он еще новичок на этой стезе, и поэтому его главными качествами должны быть упорство и целеустремленная серьезность. Но, сталкиваясь с реальностью жизни, он совершал массу ошибок, которые странным образом множились и накладывались одна на другую, если дело выходило за рамки обыденного. Вот и сейчас Эдуард Верлен, казалось, бросал ему вызов, а Кристи с отчаянием сознавал, что не готов принять его, как подобает.
Воспоминания назойливо вторгались в его молитвы, как ни старался он сосредоточиться на высоком. В этой лишенной каких-либо украшений комнате просто приковывал внимание устрашающей величины темный портрет, писанный маслом, который нависал над камином своей массивной золоченой рамой. На нем был запечатлен дед лорда д’Обрэ. Прямо под надменным носом прародителя выделялось странного вида сероватое пятно. Оно-то и вызвало у Кристи невольную улыбку, совершенно сейчас неуместную. Он неожиданно вспомнил, как в один прекрасный день – лет эдак двадцать тому назад – они с Джеффри, его лучшим другом, пробрались тайком в эту комнату, нервно хихикая и подзадоривая друг друга. Кристи поверить не мог, что Джеффри решится на то, что он все-таки сделал: влез на стул и куском угля пририсовал усы на хмурой физиономии своего прадеда. Следы былого преступления сохранились и поныне: уголь весьма успешно сопротивлялся многочисленным попыткам вернуть картине первозданный вид. Кристи спрашивал себя, остались ли еще на теле Джеффри следы той порки, к которой тогда приговорил его отец и которая, естественно, была осуществлена руками слуги. В ярости, как и во всем остальном, Эдуард Верлен всенепременно соблюдал дистанцию.
Слова на страницах молитвенника вдруг стали сливаться в сплошное пятно. Кристи подвигал затекшими плечами, борясь с накатившей дремотой. Он встал, подошел к окну, отодвинул тяжелую штору и поглядел на запущенный двор Линтон-Грейт-холла. За ним виднелся черный шпиль церкви Всех Святых, а еще в полумиле отсюда – деревня Уикерли, где он родился и вырос. Стоял апрель; отлогие холмы, поросшие дубами, радовали глаз зеленью и желтизной, а Уик, обычно спокойная, несмотря на крутые берега, речушка, сейчас пенилась и бурлила, устремляя свои воды со стороны Дартмура с силой настоящего потока. В этой реке они с Джеффри когда-то ловили рыбу круглый год, исследовали каждую тропку по ее берегам, катаясь на пони, не раз оставляли друг другу секретные послания в условленных тайниках под серыми глыбами камня на перекрестках. Да, они были, что называется, не разлей вода все первые шестнадцать лет своей жизни, пока Джеффри не покинул дом. Следующие двенадцать лет Кристи не имел от него ни единой весточки.
Но вот шесть дней назад пришла записка. «Дай мне знать, когда ублюдок сдохнет», – нацарапал Джеффри на обратной стороне счета от портного – да и то лишь после того, как Кристи вторично написал ему на лондонский адрес, который едва сумел вытянуть из стряпчего лорда д’Обрэ. «И как ты, черт возьми, поживаешь? – гласили каракули в постскриптуме. – Что за шутки? Ты – священник?!»