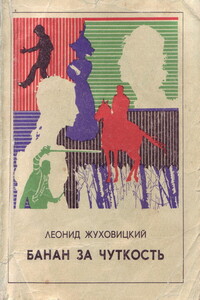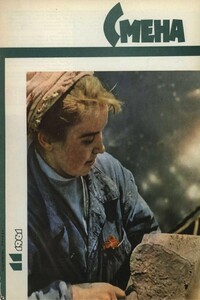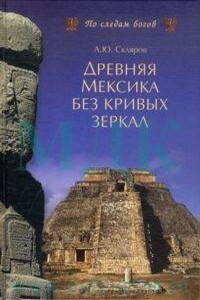Леонид Жуховицкий
Лягушка в сметане
Будильник. Душ. Зеркало.
Зеркало заглублено в стену, элегантно вписано в голубой кафель. Но — и это главное — оно большое, рабочее. И в зеркальной мастерской, и с плиточниками Алевтина договаривалась сама и сама следила за установкой. Оно и замышлялось как ее зеркало, рабочее зеркало. А в спальне висело еще одно. Два рабочих зеркала в квартире — это был вызов судьбе, наглый символ уверенности в успехе и — чуть-чуть — кнут самой себе. Шевелись, Щипцова, шевелись, твой рабочий день с утра до ночи, лентяйки не танцуют Жизель… Когда это было? Давненько, тому лет пятнадцать, наверное…
После грубого полотенца тело порозовело, по коже расходилось тепло. Хорошая кожа. И вполне приемлемое тело, возраст почти неощутим. Грудь могла бы быть покрепче, да. Но — что делать. В ту давнюю пору, еще до зеркал, да и вообще до квартиры, ей говорили, да и сама знала: или девственная грудь, или ребенок. Тут уж выбирать. Могла бы быть покрепче, да. Зато Варька на втором курсе.
На лицо Алевтина взглянула бегло, не оценивая. Здесь все ясно, лицо надо делать. Зато ноги — без вопросов, бедра словно художник по блату нарисовал. В сорок один год. Так что не гневи Бога, Щипцова.
Алевтина не любовалась собой, эта дурь истаяла еще в начале балетной карьеры — она просто смотрела на себя требовательным и жестким взглядом профессионалки. Надо же знать, чем располагаешь.
Особенно сегодня.
В напольных часах (память о бабуле-интеллигентке) скрипнула стрелка. Девять, можно звонить. И нужно, а то еще уйдет, он жаворонок. По крайней мере когда-то был.
Телефон она узнала накануне вечером, однако долго колебалась и позвонила поздно: голос был его, но хмурый и словно бы сонный. Она повесила трубку.
Вот и теперь подошел он.
— Будьте любезны Анатолия Юрьевича, — произнесла Алевтина вежливо, хотя вполне имела право на иное обращение и иной тон. Но она заранее решила держаться предельно скромно. Большой человек, лауреат, пьесы в ста театрах. Так что степень фамильярности пусть устанавливает сам.
В свое время их связал стремительный красивый роман — но когда это было…
— Это я.
В голосе был некоторый интерес, но Алевтина не стала обольщаться: он ее не узнал, скорей, обычная реакция на женский голос.
— Анатолий Юрьевич, это Щипцова… если еще не забыли…
— Алка?!
— Алка, — подтвердила она радостно и благодарно. Это имя было как пароль: все близкие с детства звали ее Тиной и лишь для него она была Алка.
— Какого черта ты столько лет…
— А ты?
— Я лауреат, — сказал он, — а ты кто?.. Ладно, короче, когда увидимся?
— Я как раз хотела…
— Ты как живешь-то? Муж тот же?
— Сейчас одна.
— Так, погоди… Сейчас девять? Давай в полчетвертого ко мне.
— А ты не мог бы… — неуверенно начала она. Не хотелось являться просительницей.
— Ладно, тогда я у тебя в четыре. Так… — он помедлил немного, после чего без ошибки назвал ее адрес — он и раньше гордился памятью.
Свободна ли она в четыре, он не спросил: как и в дни былые не то чтобы не считался с ней — просто привык отсчитывать мир от себя. И Алевтина, даже не прикинув в уме, свободна ли в четыре, сказала, что ждет: еще в ту давнюю пору она тоже привыкла отсчитывать мир от него.
К тому же не она ему нужна, а он ей. Позарез нужен.
* * *
Между тем еще полгода назад окольно узнавать изменившийся телефон и проситься на прием к бывшему любовнику ей и в голову не пришло бы. Она жила совсем неплохо, даже хорошо, существенных претензий к судьбе не имела — короче, и человеческой своей участью, и женской была довольна. Муж есть, дочка есть, квартира есть, занятие есть, деньги есть, моложава, одета, смотрится, звоночки старости пока еле слышны вдали — чего еще требовать в сорок лет? Конечно, кому-то повезло больше — но надо же и совесть знать.
Предложи ей тогда кто-нибудь поменять судьбу на другую, она бы очень и очень подумала.
Теперь же ее согласия никто не спрашивал. Земля разверзлась, все ухнуло в черную дыру, жить предстояло сначала. С нуля. В те же самые сорок лет.
С детства Тина даже не мечтала, а знала, что будет балериной, иные планы и не строились. Сперва ее водили в кружок при клубе, потом в народный театр, потом в училище, впрочем, в училище ездила уже сама — подросла. Родители, обычные советские служащие, спали и грезили увидеть дочку на большой сцене в пышной пачке на цыпочках — особенно мать. Отец ворчал и пошучивал, но на все детские концерты ходил.
В кружке она была лучшей, в народном театре тоже превосходила всех сверстниц, кроме одной. Но уже в училище оказалось, что сильных девочек на курсе никак не меньше пяти, а среди старших есть вообще такие… Началась гонка дарований, Алевтина старалась не отстать, честно сидела на капустке, из зала с зеркалом во всю стену уходила мокрая. Не ее вина, что кому-то из девочек природа выдала ноги подлинней, бедра поуже и спину погибче.
Кончила она все же среди первых и распределилась удачно: не в самый главный театр, но тоже в знаменитый, где перспективы оказались даже радужней, потому что балеты ставились чаще и не все партии делились между сверхзаслуженными старухами. Почти сразу ей дали эпизод, через год еще один… Не известно, как бы все сложилось, если бы не завертела личная жизнь.