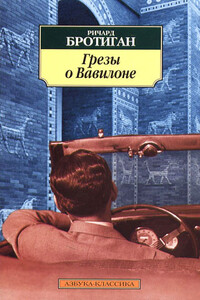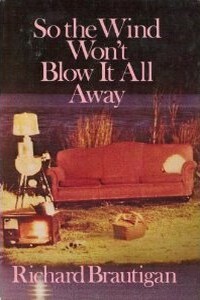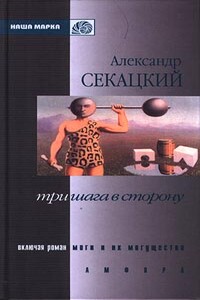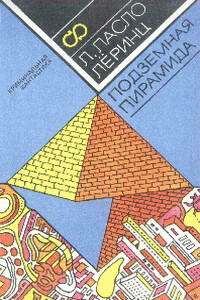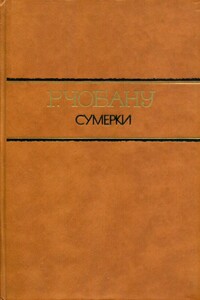Моя бабушка — на свой, разумеется, лад — что лучезарный маяк в бурной истории Америки. Она была бутлегершей в захолустном округе штата Вашингтон. А кроме того — весьма представительной женщиной: ростом под шесть футов, и свои 190 фунтов веса носила так, как подобало оперным дивам начала 1900-х годов. Занималась преимущественно бурбоном — он выходил немного неочищенным, но здорово освежал во времена закона Волстеда.[2]
Конечно, никакой она не Аль Капоне[3] в юбке, но байки и россказни о ее бутлегерских подвигах разлетались в тех, как говорится, краях, словно из рога изобилия. Много лет она из всей округи просто веревки вила. Бывало, каждое утро к ней сам шериф заглядывал — с отчетом о погоде и видах на кладку несушек.
Могу себе вообразить, как она с ним разговаривала:
— Что ж, шериф, надеюсь, вашей матушке скоро получшеет. Да я и сама на той неделе застудилась так, что горло болело. До сих пор вот носом шмаргаю. Передавайте, мол, велела кланяться — пускай в гости заходит, как следующий раз в наших краях будет. А ежели вам вон тот ящик, так забирайте сразу, или я вам его сама пришлю, как только Джек с машиной вернется.
Нет, даже не знаю, пойду на бал пожарников или нет, но вы же знаете, что я к пожарникам завсегда со всей душой. Ежли меня там сегодня вечером не будет, так мальчонкам и передайте. Нет, я, конечно, постараюсь, да вот простуда меня никак не хочет отпускать. Каждый вечер так и лезет, так и лезет…
Бабушка жила в трехэтажном доме, который даже по тем дням считался древним. Перед домом росла груша, уже сильно подмытая дождями — от того, что много лет перед домом не было лужайки.
Штакетник, окружавший лужайку, тоже давно исчез, и люди подъезжали на своих машинах прямиком к крыльцу. Зимой весь двор перед домом превращался в трясину, а летом твердел, как скала.
Джек, бывало, костерил этот двор на чем свет стоит, словно тот был живой тварью. Джек — это мужчина, проживший с моей бабушкой тридцать лет. Он не был мне дедом. Он был итальянцем, который однажды пришел к ней по дороге. Джек ходил от дома к дому и продавал участки во Флориде.
Он торговал мечтой о вечных апельсинах и солнышке в тех краях, где люди жевали яблоки и вечно мокли под дождем.
Джек заглянул к бабушке, чтобы продать ей участок в двух шагах от центра Майами, а через неделю уже развозил по округе ее виски. Задержался на тридцать лет, а Флорида продолжала цвести без него.
Двор перед домом Джек ненавидел, ибо считал, что двор лично против него что-то замышляет. Когда Джек пришел по дороге, перед домом была очень красивая лужайка, но он загубил ее на корню. Отказывался не только поливать, но и вообще как бы то ни было за ней ухаживать.
Земля стала такой твердой, что летом у него сразу спускало покрышки. Двор всегда находил гвоздик, чтобы воткнуть ему в шину, а зимой, когда начинались дожди, машина то и дело тонула по самую крышу.
Лужайка принадлежала моему деду, который конец жизни провел в приюте для душевнобольных. Она была его гордостью и радостью. Про это место говорили, что от него у деда вся сила.
Дедушка был мелким вашингтонским мистиком, и в 1911 году предсказал точную дату начала Первой мировой войны: 28 июня 1914 года. Но это оказалось для него чересчур. Он так и не смог насладиться плодами своих трудов, поскольку в 1913-м его упрятали, и семнадцать лет он провел в психиатрической лечебнице штата Вашингтон, полагая, что сам он — еще ребенок, а на дворе — 3 мая 1872 года.
Он считал, что ему шесть лет, день стоит пасмурный, скоро пойдет дождь, а мама печет для него шоколадный торт. До самой смерти в 1930-м году дедушка жил в третьем мая 1872 года. Шоколадный торт пекся семнадцать лет.
От дедушки осталась фотография. Я очень на него похож. Единственная разница — во мне больше шести футов росту, а он едва достигал пяти. У него имелся пунктик: мол, чем меньше ростом он будет, чем ближе к земле и своей лужайке, тем точнее сможет предсказать точную дату начала Первой мировой войны.
Жалко, что война началась без него. Если б он только мог растянуть свое детство еще на годик, если б не соблазнился шоколадным тортом, то все мечты его сбылись бы.
На бабушкином доме всегда было две больших вмятины. Их так и не отремонтировали, и одна появилась вот как. Осенью груши на переднем дворе созревают, потом падают, гниют на земле, а над ними роятся сотни пчел.
В какой-то момент у пчел появилась гадкая привычка два или три раза в год жалить Джека. Они жалили его весьма изобретательно.
Однажды пчела забралась к нему в бумажник, а он отправился в лавку купить чего-то к ужину, ведать не ведая, какую пакость несет у себя в кармане.
Он вытащил бумажник, чтобы расплатиться за покупки.
— Это будет 72 цента, — сказал лавочник.
— ААААААААААААААААААААААААААААААААААА! — ответил Джек, глядя, как пчела деловито жалит его в мизинец.
Первая крупная вмятина в доме появилась благодаря другой пчеле — она присела на сигару Джека, пока тот въезжал на машине во двор той грушевой осенью, когда рухнула фондовая биржа.