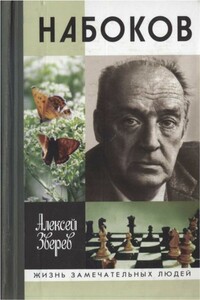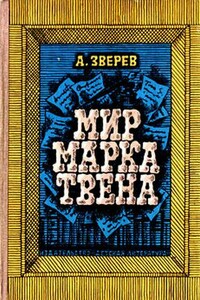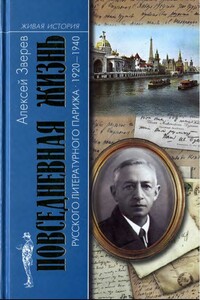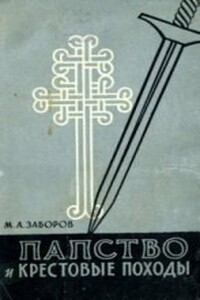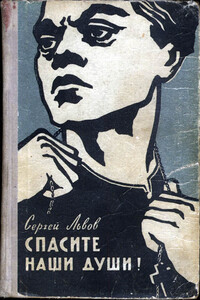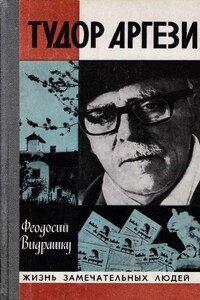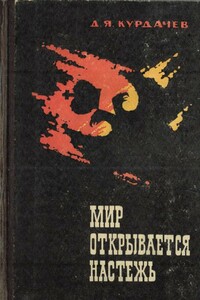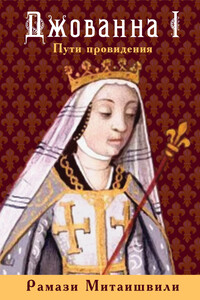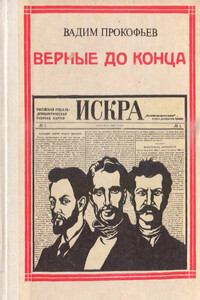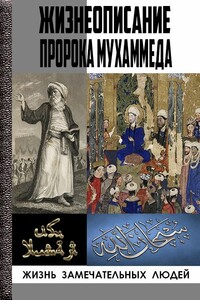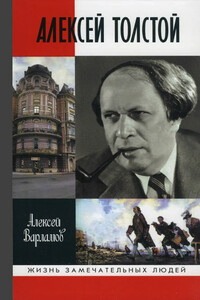Вступительная статья ТАЙНА НА КРАЮ «ЗАКАЗА»
Это уже инстинкт — наступает сентябрь, и русские писатели, как птицы на юг, тянутся в Ясную Поляну. Повод-то внешний — «Писательские встречи» по случаю дня рождения Льва Николаевича, начавшиеся десять лет назад в самую отчаянную пору общего разбегания. А на самом деле — острая тоска по цельности, по живой, земной, крепкой, полной, как будто ускользающей, истекающей из нас сегодня жизни. Словно мы теряем ее плоть, и она остается где-нибудь в Михайловском, Спасском и вот в Ясной, и надо успеть застать ее.
Не знаю, как другие, а я ее больше чувствую даже не в наших здешних горячих спорах (они, наверное, таковы были бы и в другом месте), а когда смотрю скачки. Помню, как младшая дочь Владимира Ильича Толстого — нынешнего директора музея и праправнука Льва Николаевича — Катя (тогда еще совсем девочка) с пылающим лицом летела верхом на пони, упала на повороте, но успела догнать лошадь, снова вскочить в седло и прийти-таки к финишу первой. А потом, как Вронский на Фру-Фру, вышел на старт уже сам Владимир Ильич и тоже никому не уступил на финише. А еще помню, как я и его маленькие сыновья Андрей и Ванечка стояли на головах (ведь надо научить их этому высокому искусству), и их нетерпение (особенно Ванечкино, который не умел переносить поражения и пускался в слезы) вызывает в памяти общее мнение полуторастолетней давности о некоторой «дикости» (а надо бы сказать — подлинности) Толстых. Как же далека и таинственно жива и сильна эта кровь, как крепка родовая закваска, как громко стучит в бурном течении жизни сердце этого рода — Лев Николаевич. И это так прямо и принимаешь, как вполне физическое сердце, как неустанно трепещущее горячее тело. Не память и предание, тем более не художественный образ, а именно всю полноту жизни. Словно это мы сон и пустое искусство, а настоящая реальность — он. Словно он вобрал в себя всю плоть русской жизни со всеми ее детьми, женщинами, стариками, с ее молодой радостью, ее цветением и плодоношением, с ее угасанием и, наконец, самим таинством, чудом и ужасом смерти, а нам оставил только оболочку — внешние потрясения — революции, войны, тирании и демократии. Одни слова и понятия, которые мучают и так или иначе складывают нас, но как будто не совсем совпадают с реальностью, не заполняют ее. И мы все время ощущаем, что есть зазор между тем, что есть собственно жизнь, и тем, что мы ею называем. А в нем всё сходилось с непостижимой плотностью, и жизнь была его женою, его силой, его страданием, его религией, им самим. И этот опыт так огромен и духовно важен всем нам (не одному русскому, а всякому человеку в мире), что, не всмотревшись в него, мы не можем понять чего-то самого существенного, без чего человек не весь человек, а жизнь — не вся жизнь.
Это и заставляет нас каждую осень слетаться к его дому, как будто это и наш родовой дом, и вчитываться в каждую книгу о нем с ревностью и жаждой, словно это наша домашняя жизнь, наша полнота существования и наше спасение. И дивишься отваге тех, кто берется писать эту жизнь. И вполне понимаешь их, потому что и ими движет тоже желание понять загадку великого целого и через него найти место и самому себе, и своим вопросам к миру.
Хотя, кажется, чего еще-то писать. Хватило бы сил прочитать прежнее. Книги его, его дневники с их пугающей откровенностью, которая заставляет сжиматься, потому что обнаруживает и твою собственную тьму и греховность. Дневники Софьи Андреевны с их любовью, ужасом, стыдом, горем, желанием оправдания и прямотой исповеди. Хватило бы сил прочитать дневники и воспоминания сыновей и дочерей, которые учились у отца не скрывать и самых болезненных чувств и переживаний. Да ведь и его литературные секретари В. Булгаков и Н. Гусев оставили мемуары. И врач Душан Маковицкий. И все великие современники, кто знал его и говорил с ним — Бунин и Чехов, Горький и Андреев, Крамской и Репин. И грамотные крестьяне, как М. Новиков и С. Семенов. А ведь еще П. Сергеенко, А. Кони, А. Гольденвейзер (нет, надо остановиться, иначе перечислишь пол-России). И в «ЖЗЛ» уже была о Толстом большая книга В. Б. Шкловского.
Что же тогда побудило Зверева и Туниманова снова писать эту жизнь? А время и побудило. Современность и побудила. Чечня и голод, «катюши масловы» и «живые трупы» без меры, терпкие вопросы к себе после обманывающего дня и тонкий холод «арзамасского ужаса», прикрытый телевизионными «полями чудес» и встречами правителей в галстуках и без.
Толстого нельзя писать «по заказу». За него можно только ухватиться, чтобы проверить этим «компасом» меру уклонения нашего русского пути в нынешней исторической тьме, колебания полюсов и силу магнитных бурь. И написать только таким же открытым сердцем, потому что речь идет и о твоей жизни. Да и в первую очередь о твоей, потому что его жизнь измеряется уже иными весами, хотя еще и зависит от нашей молитвы и понимания. В таких случаях лучше идти прямо. И авторы не искали новых форм жанровой игры и эксперимента. На Толстом это не держится. Они просто прожили эту неподъемную жизнь от рождения до кончины, заглянув в родовой исток этой «дикой» природы и в инверсионный след этой жизни в нынешней культуре и мысли.