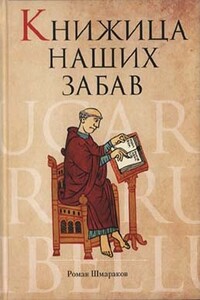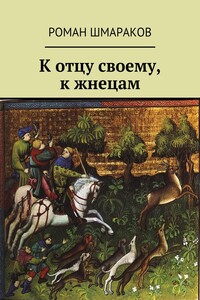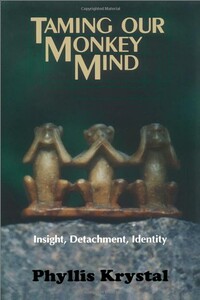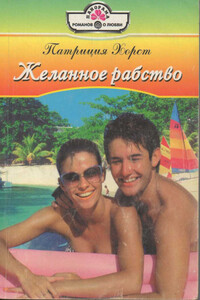Леокадия, смотря на молодого человека с разбитого корабля, спрашивает его, умеет ли он любить. Молодой человек гневно отвечает, что хотя он и в плену, но любовь его свободна — ни приказать, ни принудить его невозможно, и проч. Кудри его блистают; солнце садится. Леокадия подает знак его увести. Молодого человека запирают одного в комнате чистенькой, но не внушающей надежд. Портрет султана в пору первой молодости ее украшает. Во внутреннем дворике под деревом небольшой бассейн. Молодой человек долго кричит в дверь и садится на пол.
Пока разрешили ему мебель, он приучился сидеть по-варварски. Бумаги ему не дают, а из европейских книг находится лишь «Анабасис» в итальянском переводе; он изучает приложенные карты: они оказываются составлены по Птолемею. Вестей от Леокадии никаких. Вдруг начинают кормить все хуже, так что он ко всему теряет интерес и смотрит с тоскою в окно и на султана. Через неделю, грязный, в соленой одежде и обессиленный голодом, он лежит на полу. Уснувшего, его уносят два янычара.
От страшных снов, касающихся его будущности, он просыпается в комнатке окнами в сад, со светлою рябью бассейна на потолке. Его удивление застают прелестные девушки, в шальварах и шелковых туфлях, впорхнувшие в комнату так, что он не успел их сосчитать; раздев его догола, сажают в бочку с ароматной водой и, насильно вымывши, одевают в чистое европейское белье и платье. Приносят завтрак с шоколадом и газетами почти свежими. Он задумывается, что благородство везде проникает, и посылает их передать благодарность его Леокадии, умеющей понять резоны чужие. Ему обещают. Он еще успевает сказать приличные любезности, которых они смущаются.
Он выходит, никем не препятствуемый, осмотреть забор: каменный, слишком высокий. Он думает, как достать лестницу, но деньги его пропали с отобранною одеждой. Однообразные шепоты за стеною привлекают его внимание, и несколько дней после обеда он тайно приходит сюда, на всех языках составляя призывы самые трогательные; наконец, раздосадованный нежною невнятицей, решает, что это только фонтан. Еда изысканна, и ложась в постель, ему все кажется, что слишком ее много.
Ночью он решается через стену неудачно. На обратной дороге, заметя в саду какую-то старуху, собирающую травы, он думает спросить, нет ли у ней чего-нибудь от ушибов: она сейчас пропадает. Назавтра кормят его особенно вкусно. Он корит свое бездействие.
Леокадия требует его внезапно; он отвечает ей с гордостию. На лице ее задумчивость. Его возвращают в комнату, моют и кормят; от девушек в шальварах он не может выяснить никаких ее распоряжений. Засыпает он в бочке, когда расчесывают ему волосы.
Шум движения и разговора его пробуждает. Он лежит нагишом, под колоннами внутреннего двора, среди толпы девушек, которые заняты своими делами. Странное высокомерие, которое обличается в обладателях власти безответной, поражает его неожиданностию своих действий. Весь день сидит он скорчась; женщины ходят мимо него; простодушное их бесстыдство его изумляет. На лицах тех, что купаются в фонтане, он видит легкую улыбку, которая занимает его воображение. В счастливых сумерках наступившего новолуния выходит он поискать еды.
От него требуют теперь работы, а привычка, которую в этом случае он склонен считать благодетельною, и угроза умереть от голода заставляют его смириться с участию водоноса. Одна из женщин дарит ему какое-то тряпье. Он обгорает под непривычным солнцем, а обильная еда и ленивое провождение времени сделали то, что лицо его, очень красивое, и тело оплыли очень заметно. С медным кувшином на загорелом плече, безучастно стоит он между девушек, ждущих набрать воды из фонтана, и ветер играет его черными локонами, когда проходящие мамелюки хлопают его по заду, впрочем дружественно. Он бросает кувшин, и девушки разбегаются в трепете.
Он ласкается думать, что речь его, об уважении к мужчине и человеку просвещенному, и требование аудиенции у султана, который сумеет оценить его достоинства, сделала впечатление. Девушки, как обыкновенно, приходят в комнату его вечером; думая подурачиться с одною, он замечает трудность ее поймать. В жареном мясе новый соус. В полнолуние он, пораженный внезапным ощущением, стоит, выскочив из постели, перед зеркалом, глядя на свои ноги, которым влияние туземной кухни усвоило вид почти женский. Звуки из сада его отвлекают; старуха, в которой узнает он свою знакомую, склонясь на коленах, воздевает руки к луне. Тревога его охватывает. У девушек спрашивает он Лукана, в котором всегда презирал клеветника Цезарева; ему обещают поискать.
Брюки делаются для него испытанием. Он проводит дни en déshabillé, приученный жизнию в серале и находя в этом живейшее наслаждение. Вдруг объявляют ему о милости быть допущену до аудиенции. В восторге, он не спит перед нею, думая о свободе, об удачном ответе и возможном влиянии, и проч. В строгом сукне, с живописными кудрями по плечам, несколько часов он терпит в жаркой, блистательной зале, среди разноязычной толпы, а потом посылают его есть за одним столом с сераскирами и кучерами британского посольства. От опасностей, какими в здешних нравах угрожает непрошеная его прелесть, он дичится соседей — и уронив салфетку, не решается ее поднять. После третьего-четвертого выхода, когда он по-прежнему не имеет ничего кроме разочарований, европейский фасон не выдерживает роскошных его, по-местному загорелых бедер, — брюки вечером расползаются плачевно. Ему выговаривают с силою, упирая особенно на великодушие султана, на любовь его к театру франков: он извиняется неловкостию и потом винит себя за малодушие.