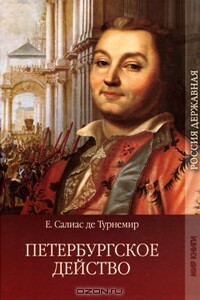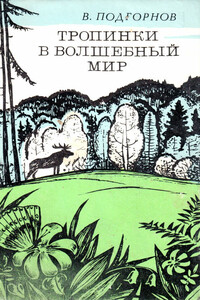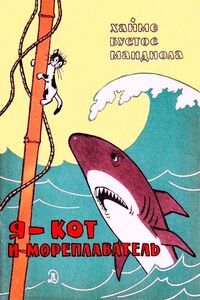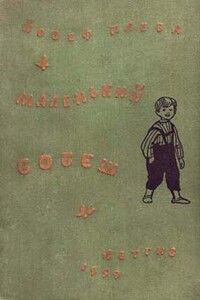В глубине Уссурийской тайги, в одном из самых глухих ее уголков, куда и человек испокон веков не заходил, и зверь не забредал, птица и та была редкой, рос одинокий кустик, даже не кустик, а так, травка — тонкий высокий стебель, обсаженный несколькими пятипалыми листьями и увенчанный изящной короной из красных ягод.
Из одной такой ягодки, занесенной бог весть откуда и когда, проклюнулся росточек. Рос он не спеша вверх и вниз, а на планете, его породившей, шли годы, десятилетия, века, шумели, проносились, сменяя одна другую, бури, войны, наступали затишья и вновь разражались катаклизмы. И только здесь, в сумрачной теплой сырости непроходимого леса, было тихо и спокойно.
И выросла травка, никем не потревоженная. Высоко над землей поднялся ее стройный стебель, глубоко в земле налился соками мощный корень. И когда наступила ее двухсотая, а может быть, трехсотая осень, затосковало растение, предчувствуя, что пропадает втуне, не передав никому взлелеянную им чудодейственную силу.
И пришел Человек. Злой ли рок его закинул, добрый леший ли завел — неизвестно. Осторожно ступая, внимательно осматриваясь, обшаривая травы палочкой, он медленно проходил мимо. Корейский кедр, маньчжурский орех, даурская береза, оплетенные лианами дикого винограда, старательно укрывали красавицу-травку, не желая расставаться с нею, ведь они выросли и состарились около нее. И только уже покидая это место, Человек краем глаза заметил в густой рясной зелени трав и листьев рубиновые шарики ягод.
Он круто повернулся, бросился к ним, раздвигая заросли руками, не чувствуя боли от впившихся в него колючек разъяренного чертова дерева. Перед гордым коронованным стеблем с растопыренными пятипалыми листьями Человек замер и с минуту стоял, очевидно, не веря своим глазам. Потом закричал радостно и страстно:
— Панцуй! Панцуй![1]
А может быть, танцуй? Потому что он тут же, словно одержимый, начал плясать и прыгать, бессвязно что-то выкрикивая. Затем упал на колени и, подняв лицо к небу, скудно виднеющемуся сквозь сплошной полог крон, стал горячо молиться своим богам. Он благодарил их за посланное ему счастье, умолял не передумать и не отобрать свой бесценный дар… Время от времени он поглядывал на заветное растение, будто и впрямь проверяя, на месте ли оно, не исчезло ли?
Немного успокоившись, он вынул из складок халата трубочку с длинным и узким мундштуком, набил ее табаком, покурил. Потом принялся священнодействовать; другим словом не назовешь его плавные аккуратные движения. Острой костяной палочкой он выкопал корень, бережно и осторожно обобрал с него землю, стараясь не оскорбить ни одной мочки, не повредить ни одного, даже самого тоненького волоска.
И снова замер, окаменел, любуясь необычайной красотой корня. Перед ним было его подобие — человечек! Крепенькое тельце теплого желтоватого цвета, с крохотными ручками и ножками. Женьшень… В китайском написании этого слова один из иероглифов означает: человек.
Счастливо вздохнув, Человек срезал с ближайшего кедра лоскут коры, быстро соорудил панцуй баоцза — нечто среднее между конвертом и шкатулкой, наполнил ее сырым мхом и уложил в эту постель корень. Со срезанного стебля он обобрал ягоды, опустил их в вырытые лунки и присыпал землей.
Если бы он не был так увлечен этой приятной работой, давно бы, наверное, почувствовал на себе острый, алчно-злобный взгляд из-за кустов леспедецы, густо разросшейся шагах в тридцати от того места, где сидел. Едва корневщик, закончив свои дела, поднялся на ноги, как прогремел выстрел. Человек упал, кровью поливая только что посеянные им семена.
Корень жизни стал причиной смерти. Убийца вышел из кустов, вырвал из коченеющих рук своей жертвы конверт и спрятал его за пазуху. Наскоро порылся в котомке корневщика, брезгливо отшвырнул ее ногой и зашагал прочь, улыбаясь мерзкой своей удаче.
— Фарт! Фарт! — прокричала пролетевшая над его головой утка-мандаринка, по-здешнему Огонек.