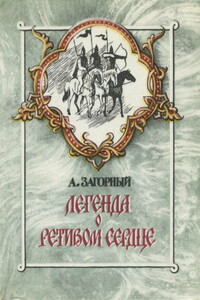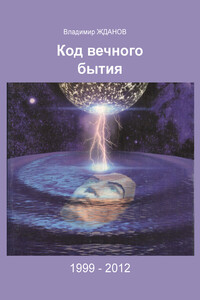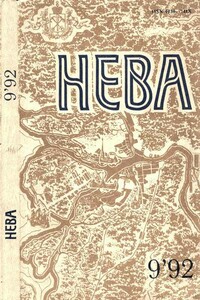— Ха-ха-ха-ха…
Упругий шест скользнул по замёрзшей лужице, и, вместо того чтобы увидеть бездонно-голубое, озарённое осенним солнцем небо, Илейка плюхнулся в колючие кусты терновника…
Это было первым предостережением. Потом он часто падал на землю, с размаху, больно. Слишком тяжелым был для того, чтобы летать, слишком сильным для того, чтобы не чувствовать на себе этой огромной земной тяги.
Зима ходила у ворот. Рядилась в медвежью шубу, рассыпала колючие иголки инея, ковала броню по озёрам, гнала стада полевок и белок. Уцелевшие на ветках листья стучали уныло, как костяные. Из-за хмурой Оки тянуло гарью — чадили камыши. Кривясь от боли, Илейка смеялся, и радость его была беспричинна, как песня, как серебряный плеск прыгающего по камням ручейка, как те таинственные голоса, которые носит ветер от одной кущи к другой по белесым пажитям и заречным песчаным раскатам. Потом Илейка не раз слышал эти голоса. «А-а-а-а», — вдруг начинали звучать они в самую неподходящую минуту, когда слепили глаза кривые печенежские сабли. И тогда он был счастлив.
— Ха-ха-ха-ха, — залился мальчишка безудержным смехом оттого, что так высоко прыгнул, и все перевернулось в глазах: и крутой берег Оки, и пустынные поля, и город Муром в отдалении с его тесовыми крышами, дубовым, почерневшим от времени частоколом и возвышающейся над всем худенькой колоколенкой. Все это взлетало, неслось в стремительном круговороте. Илейка чувствовал себя птицею, раскинувшей сильные крылья. Раз, два, три, четыре! Несколько шагов — и вот уже снова руки упираются в ясеневый шест… Рывок — и стоптанные лаптишки с развязавшейся онучью мелькают в воздухе, трепещет дырявая на ветру рубаха.
— Ха-ха-ха-ха…
Не знал Илейка, что уже сегодня жизнь Дохнет на него холодом и хоть не остудит сердца, но заставит навсегда позабыть детство. Увязался знакомый лохматый пес, все норовил схватить за портки и поднял такой брех, что переполошил всех собак в округе.
Мать Илейки, Порфинья Ивановна, мочила коноплю в реке. Она брала пучки сухих стеблей, опускала их в прорубь. Это была рано состарившаяся женщина, с лицом, почерневшим от солнца и ветра. Тяжелые складки лежали у рта, и оттого улыбка ее казалась вымученной. Услышав смех сына, она натужно разогнула спину, подышала в окоченевшие кулаки, улыбнулась. Но тут же сердце её болезненно сжалось от смутного предчувствия. «Не к добру, — подумала она, — Ой, не к добру…» Ведь крестьянскому сыну грешно смеяться так громко, так дерзко — его подстерегают всякие беды, и не дремлют чёрные боги. Они завистливы, раздражительны, их озлобляет радость человека. Много шкод бывает от них. Ледяные струи потихоньку утаскивали пучки измоченной конопли.
Илейка бежал весёлый, как лесной дух. Бежал, прыгал, пока не сломался шест. Пес кинулся за Илейкой в заросли бурьяна, стал тормошить его, легонько покусывая, бить лапами в грудь. Тот только отплевывался:
— Пошёл, Вострун! Тьфу ты совсем! У… у… кудлатый, пошёл!
Пёс не отставал, прыгал, припадая на передние лапы, сбивал хвостом изморозь с будылей.
— Ай! — вскрикнул мальчик. — Рубаху запятнал, чтоб тебя! Гони ко двору!
Собака перестала лаять и выжидательно смотрела, но Илейка не смягчился, важно прошествовал по улице. Потом не выдержал, свистнул громко, отрывисто и побежал. Пёс бросился вдогонку, путаясь в ногах. Илейка смело совал ему в пасть кулак, клал пальцы на острые зубы.
Улица была пустынна, только дряхлые старики в длинных шубах грелись на солнце, клюками подперев подбородки, да воробьи копались в старом, промытом дождями навозе. У голой, сбросившей свои красные гроздья рябины Илейка свернул в переулок. Ватага мальчишек едва не сбила его с ног. Деревянные мечи глухо стучали, мелькали вихрастые головы.
— Не робь! Не робь!
— Держись!
— Рази боярчонка!
— Тюкни, тюкни его, вражину!
Их всех теснил боярский сын Ратко, в высоких грязных сапогах и замусоленном кафтане. Он был на целую голову выше других и ловко орудовал дубовым мечом. На самую переносицу сдвинута лисья, с потертым верхом шапка, лицо покраснело от злости.
— Дрожишь, земля, дрожишь? — спрашивал боярчонок простуженным голосом. — Пощады просишь?!
Это не было похоже на игру. Он хлопал то одного, то другого по бокам, сбивал шапки, и уже у многих на лбу вздувались шишки. Пядь за пядью ребята отступали.
— Всех вас с улицы выжму! — кричал победитель. — Моя улица и село мое! Черти провальные!
— Илейка идёт! Илейка! — обрадованно взвизгнул мальчишка в бараньем тулупе. — На подмогу!
Его возглас подхватили другие, загомонили, осмелев, лезли под самый меч Ратко.
— Иду! — откликнулся Илейка, вырывая у кого-то из рук палку.
В это время обозленный боярчонок так хватил большеглазого и большеухого мальчишку, что тот схватился за голову и побежал. Илейка вздрогнул: то ли испугался чего-то, то ли впервые понял, что всю жизнь у него будет бой крепок, брань лютая и сеча злая. Выставил руку, она будто одеревенела.
Ратко отскочил, втянул голову в плечи, белесые глаза его уставились на Илейку:
— Ты какого такого сопливого роду? Бей, ну, бей! — и вдруг заработал мечом с такой силой, с таким напором, что Илейка не выдержал, отступил на шаг, на два… — Бей, бей, бей! — повторял Ратко, не давая опомниться. — Растопчу, жук навозный, голь смердячья!