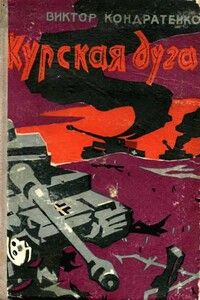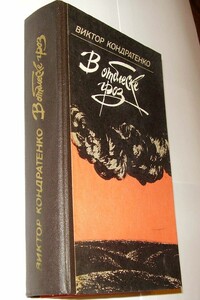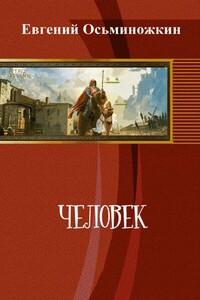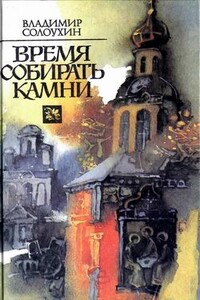— Братцы, Елец! Ей-богу, Елец! — С этим возгласом стриженный под машинку капитан соскочил с вагонной полки и, быстро надев сапоги, выбежал в коридор.
В коридоре спального вагона заскрипела дверь, кто-то недовольно проворчал:
— Вот петух — на заре побудку устроил. Спи, рано еще…
— Да Елец, братцы… Елец, — повторил капитан, возвратившись в купе. — Итак, друзья, с прибытием на новый фронт!
Его соседи по купе, проснувшись, провожали взглядами обрывистый берег реки.
Светало. Поезд редакции фронтовой газеты замедлил ход. За окном в небольшом овраге чернели обгорелые танки. Хвосты траншей доходили до самого полотна дороги. На круглых, запорошенных снегом площадках зеленели брошенные немцами пушки.
Хлопья снега медленно оседали на расщепленные деревья, вздыбленные крыши домов, закопченные стены какой-то фабрики. На желтой заре виднелся купол водокачки в сквозных пробоинах. А над рекой, где на серых льдинах лежали трупы лошадей, кружились галки.
— Да-а… — вздохнул капитан и, не отрываясь от окна, покачал головой, — развалины… Ничего себе встреча с городом юности.
— А я считал Грачева саратовским братишкой-землячком, — спускаясь с верхней полки, пробасил грузный пожилой майор с едва заметными рябинками на широком лице.
— Я-то сам саратовский, Николай Спиридонович, но в Ельце десятилетку кончал. Давно это было… А вот стали подъезжать к городу, воспоминания и нахлынули. — Грачев помолчал и задумчиво произнес:
На заре туманной юности
Всей душой любил я милую…
В купе стало тихо. Монотонный стук колес подчеркивал эту тишину. Майор неторопливо раскуривал огромную трубку. Клубы дыма лениво потянулись к вентилятору. Майор порылся в чемодане, достал мыло и, перекинув через плечо мохнатое полотенце, повернулся к Грачеву:
— Ты, братец мой, — лирик! Тебе не информации писать, а стихи.
— Стихи? — усмехнулся Грачев. — Нет уж, Николай Спиридонович! В этом деле мастак Дмитрий Солонько, а я, как говорил Маяковский, «чернорабочий газетной строчки». — Вспомнив о Дмитрии, Грачев озабоченно взглянул на верхнюю полку. — Как самочувствие, небожитель? Пора спуститься к простым смертным. Все отоспаться не можешь? Дмитрий, слышишь! Не захворал ли ты?
Поэт Дмитрий Солонько лежал на спине, заложив руки под голову и устремив сосредоточенный взгляд в потолок. Он не спеша повернулся на бок и посмотрел вниз на Грачева.
— Нет, Саша, я не болен. Так просто… Размышляю.
— А-а!.. — многозначительно протянул Грачев. — Интересно, над какой проблемой?..
— Не над проблемой, а над поэмой!
— Ну что ж… Тоже дело общенародной важности. Творческое брожение?
— Вот именно! Только что́ из этого брожения выйдет — черт его знает.
— Давай броди, броди…. Когда-то еще моя бабушка говорила: «Чем тесто лучше выбродит, тем хлеб вкуснее!»
Дмитрий поправил целлулоидный воротничок и, застегнув гимнастерку, спустился с верхней полки.
Он был молод, сероглаз, ростом на целую голову выше коренастого Грачева, в плечах шире, его русые волосы, зачесанные назад, слегка вились на висках. Тот, кто впервые б увидел его, непременно подумал бы:
«Где так загорел этот майор? Словно в Крыму побывал!»
Но то был не загар. Донская пурга и сорокаградусные морозы оставили на лице майора свой след.
Солонько присел на нижнюю полку. И, очевидно, все еще о чем-то размышляя, долго разминал папиросу.
Грачев сел рядом.
— О чем поэму задумал? Прочти, Дмитрий, хоть строчку.
— Да ну тебя… — отмахнулся Солонько. — Все это наброски, сыро, не отшлифовано…
— А ты — наброски… — не унимался Грачев. — Ну, Дима… что ты, ей-богу.
Дмитрий провел рукой по лбу и начал читать неторопливо, монотонно, как бы про себя. Неожиданно запнулся и махнул рукой:
— Ну и так далее…
— Дмитрий! — встал порывисто Грачев. — Ты знаешь — я человек откровенный и всегда говорю правду. Если в таком духе пойдет, то… то ты на коне. Как здорово у тебя получился штурм сталинградского универмага. Бой хорошо передан. Здорово!
— Что здорово? — спросил Николай Спиридонович, входя в купе и расчесывая волосы.
— Да мы о стихах толкуем, — ответил Дмитрий.
— Я вам новость принес. Эх, и новость! Держу пари — не отгадаете.
— Наши продвинулись вперед? — предположил Грачев.
— Не то!
— Мы Елец минуем и едем дальше?
— Нет, все не то… А в Ельце мы действительно не задержимся, наша конечная остановка — станция Рождество, — заметил Николай Спиридонович.
В дверь постучали.
— Войдите, — отозвался Грачев.
Дверь купе с шумом открылась, и на пороге во весь свой богатырский рост предстал майор Гайдуков. Его пышные черные усы топорщились, лицо приняло грозное выражение, хотя в больших карих глазах легко можно было заметить веселые огоньки.
— Что с тобой, Виктор? — спросил Дмитрий.
— Со мной ничего, а вот что сейчас будет с некоторыми живописцами и борзописцами, это мы посмотрим. — Гайдуков стал засучивать рукава. — Я вам сейчас покажу, что такое витязь в тигровой шкуре! — Гайдуков улыбнулся, махнул рукой и стал доставать курево.
Майор Гайдуков любил хорошую шутку. Минут пять тому он стоял перед стенгазетой и раскатисто хохотал над посвященным ему дружеским шаржем.
— Черт возьми! В общем какая-то уродина, а улыбка, усы, фигура — все мое. Даже мой тулуп, который так меня грел в Сталинграде, и тот обыграли, подлецы. Вывернули мехом наружу, а внизу подписали: «Витя в тигровой шкуре». Сейчас я с этими художниками расправлюсь! — И направился в купе.