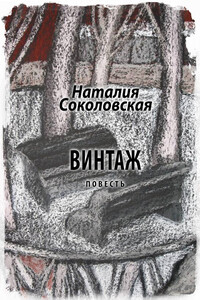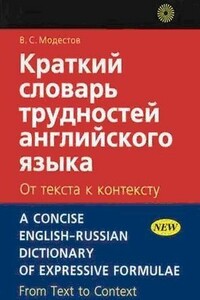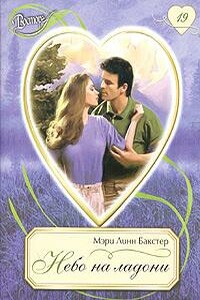Гейне в одном из своих посмертных стихотворений говорит, что мир представляется молодою красавицею или брокенскою ведьмою, смотря по тому, через какие очки на него взглянуть — через выпуклые или через вогнутые. Если верить на слово поэту, если предположить, что можно надевать себе на нос разные очки и вместе с тем менять взгляды на жизнь и на ее явления, то мы принуждены будем сознаться в том, что наше зрение радикально испорчено вогнутыми очками; чуть только мы попробуем заменить их другими или просто снять их долой, перед нашими глазами расстелется такой густой туман, который помешает нам распознавать контуры самых близких к нам предметов. Наше зрение слишком слабо для того, чтобы охватить все мироздание, но те крошечные уголки, которые нам доступны, кажутся нам такими неизящными шероховатостями и такими глубокими морщинами, которые гораздо легче себе представить на старой физиономии брокенской ведьмы, чем на свежем, прелестном лице молодой красавицы. Мы любим природу, но ее нет у нас под руками; ведь не в Петербурге же любоваться природою; не заниматься же, из любви к природе, метеорологическими наблюдениями над сырою и холодною погодою, не изучать же различные видоизменения гранита и не умиляться же над различными оттенками петербургского тумана. Поневоле придется, при всем пристрастии к безгрешной растительной природе, обратить все свое внимание на грешного человека, который здесь, как и везде, или сам страдает, или выезжает на страданиях другого. Как посмотришь на людские отношения, как послушаешь разнородных суждений, словесных, рукописных и печатных, как вглядишься в то впечатление, которое производят эти суждения, то мысль о выпуклых очках и о красавице отлетит на неизмеримо далекое расстояние. Уродливые черты брокенской ведьмы явятся перед глазами с такою ужасающею яркостью и отчетливостью, что иному юному наблюдателю сделается не на шутку страшно; он быстро проведет рукою по глазам, в надежде сорвать проклятые очки и разогнать ненавистную галлюцинацию; но галлюцинация останется ярка по-прежнему, и юный наблюдатель заметит не без волнения, что вогнутые очки срослись с его глазами и что ему придется зажмуриться, чтобы не видать тех образов, которые пугают его воображение. Иные, боясь за свои впечатлительные нервы, действительно зажмуриваются и постепенно возвращаются к тому вожделенному состоянию спокойствия, которое было нарушено неосторожным прикосновением к вогнутым очкам; другие, более крепкие и в то же время более увлекающиеся, продолжают смотреть, всматриваться, громко сообщают другим отчет о том, что видят, и не обращают внимания на то, что их речи встречают к себе равнодушие и насмешки в слушателях, что изображаемые ими картины принимаются за галлюцинации, за бредни расстроенного мозга; они продолжают говорить, воодушевляясь сильнее и сильнее; их воодушевление постепенно переходит в их слушателей; их речи начинают возбуждать к себе сочувствие; они волнуют и тревожат, они шевелят лучшие чувства, вызывают наружу лучшие стремления; вокруг говорящего группируется толпа людей, готовых перерабатывать жизнь и умеющих взяться за дело; но между тем сам говорящий изнурен колоссальным, продолжительным напряжением энергии; его измучили уродливые образы, на которых он долго сосредоточивал свое внимание; его истомила та борьба, которую ему пришлось выдержать с недоверием и недоброжелательством слушателей; его голос дрожит в обрывается в ту самую минуту, когда все окружающие прислушиваются к нему с любовью и с упованием; герой валится в могилу.
Такова общая биографическая история отрицательного направления в нашей литературе;[1] недаром большая часть писателей, изображавших темную сторону жизни, находили свой труд тяжелым и лично для себя неблагодарным; недаром Гоголь проводит параллель между двумя писателями; ту же параллель повторяет Некрасов,[2] конечно не из подражания Гоголю, а именно потому, что такого рода параллель естественно напрашивается в сознание и в чувство отрицателя. Тяжела, утомительна, убийственна задача отрицательного писателя; но для него нет выбора; ведь не может же он помириться с теми явлениями, которые возбуждают в нем глубокое физиологическое отвращение; нельзя же ему ни себя переделать под лад окружающей жизни, ни эту жизнь пересоздать так, чтобы она ему нравилась и возбуждала его сочувствие. Стало быть, приходится или молчать, или говорить горячо, желчно, порою насмешливо, волнуя и терзая других и самого себя. Неизбежность отрицательного направления начала понимать наша публика. Что само по себе это отрицательное направление представляет патологическое явление, в этом я нисколько не сомневаюсь; доказывать его нормальность и законность quand meme Во что бы то ни стало(франц.). — Ред. значило бы доказывать вместе с тем нормальность и законность тех условий жизни, которые вызывают против себя сдержанную оппозицию и глухой протест. Те журналисты, которые подвергают серьезной критике существующие идеи, те писатели, которые выводят в своих эпических и драматических произведениях грязь жизни без выкупающих сторон, без утешительных прикрас, нисколько не думают дописаться до бессмертия. Что подумают о них потомки, скажут ли они им спасибо, раскупят ли они нарасхват какое-нибудь пятнадцатое издание их сочинений, все это, право, такие вопросы, которые нисколько не занимают честного писателя, честно выражающего свое неудовольствие против разных современных неудобств и странностей. Когда у такого писателя является потребность развить несколько мыслей по поводу того или другого явления, тогда он берется за перо только с одним желанием: чтобы те люди, которым попадется в руки его книга или статья, поняли, какие обстоятельства отразились в процессе его мышления и наложили свою печать на его литературное или критическое произведение. Надо только, чтобы между публикою и писателем существовало такого рода взаимное понимание, по которому бы публика видела и понимала связь между видимыми следствиями и необнаруженными причинами. Писателю надо желать, чтобы его произведение только будило в читателе деятельность мозга, только наталкивало его на известный ряд идей, и чтобы читатель, следуя этому импульсу, сам выводил бы для себя крайние заключения из набросанных эскизов. Такого рода читатели, договаривающие для самих себя то, что недосказано и недописано, начинают формироваться мало-помалу; дайте нашим писателям такую публику, которая бы понимала каждое их слово, и тогда, поверьте, они с величайшим удовольствием согласятся на то, чтобы их внуки забыли о их существовании или назвали их кислыми, бестолковыми ипохондриками. Работать для будущих поколений, конечно, очень возвышенно; но думать о лавровых венках и об историческом бессмертии, когда надо перебиваться со дня на день, отстаивая от разрушительного или опошляющего действия жизни то себя, то другого, то мужчину, то женщину, — это, воля ваша, как-то смешно и приторно; это напоминает Манилова, мечтающего о том, как он соорудит каменный мост, а на мосту построит каменные лавки.