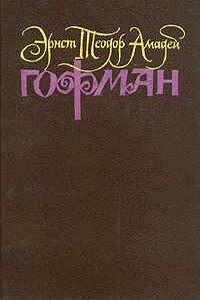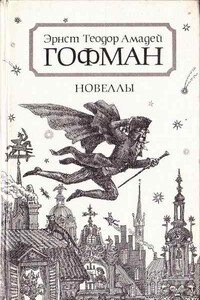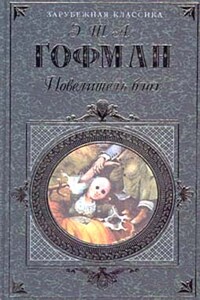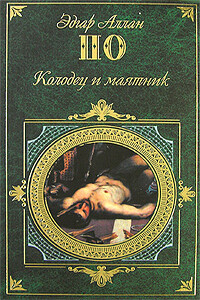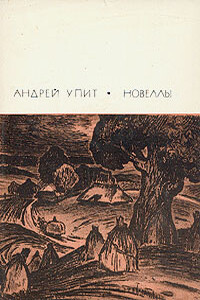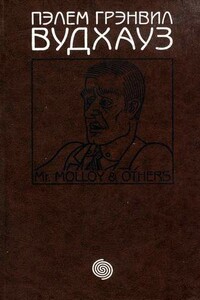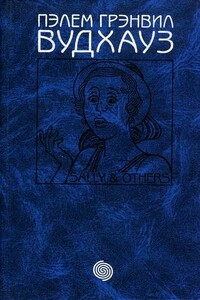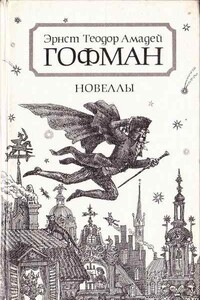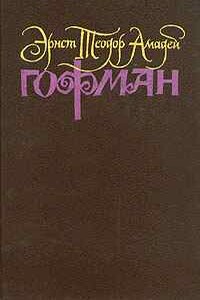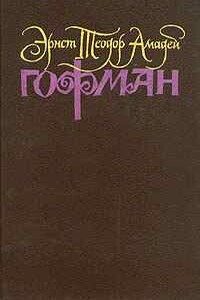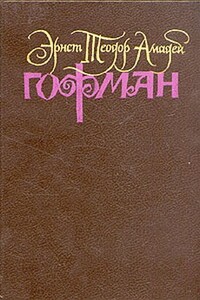Осенью прошлого года издатель этих страниц приятно проводил время в Берлине с титулованным автором «Сигурда»[1], «Волшебного кольца», «Ундины», «Короны» и др. Было много разговоров об удивительном Иоганнесе Крейслере, и оказалось, что Крейслеру привелось весьма необычайным образом встретиться с человеком, глубоко родственным ему по духу, хоть и совсем иначе проведшим свою жизнь. Между бумагами барона Вальборна — молодого поэта, потерявшего рассудок от несчастной любви и нашедшего успокоение в смерти, — его историю де ла Мотт Фуке еще раньше описал в новелле, озаглавленной «Иксион»[2], - было найдено письмо, адресованное Вальборном Крейслеру, но не отосланное. Оставил перед своим исчезновением письмо и Крейслер. С ним произошли следующие события. Уже давно все считали бедного Иоганнеса безумным. И в самом деле, все его поступки и действия, в особенности имевшие отношение к искусству, так резко переходили границы разумного и пристойного, что едва ли было возможно сомневаться в его умственном расстройстве. Образ его мыслей становился все необычайнее, все запутаннее. Так, например, незадолго до своего бегства из города он часто говорил о несчастной любви соловья к алой гвоздике. Все это было (так он полагал) не что иное, как Adagio, которое в свою очередь, собственно, оказалось всего-навсего протяжным звуком голоса Юлии, умчавшим в небеса исполненного любви и блаженства Ромео. Наконец Крейслер признался мне, что задумал покончить с собой и что он в соседнем лесу заколет себя увеличенной квинтой.[3] Так величайшие его страдания иногда приобретали шутовской характер. В ночь, предшествующую вечной разлуке, он принес своему ближайшему другу Гофману тщательно запечатанное письмо с настоятельной просьбой тотчас же отослать его по адресу. Но сделать это было невозможно. На письме был написан необычайный адрес:
Другу и товарищу в любви, страдании и смерти!
Для передачи в мир, рядом с большим терновым кустом,
на границе рассудка.
Cito par bonte[4].
Письмо хранилось запечатанным и ждало, чтобы случай точнее указал неведомого друга и товарища. Так и случилось. Письмо Вальборна, любезно доставленное де ла Мотт Фуке, уничтожило всякие сомнения в том, что другом своим Крейслер называл именно барона Вальборна. Оба письма были напечатаны в третьей и последней книгах «Муз» с предисловием Фуке и Гофмана; письма эти должны быть предпосланы и «Крейслериане», включенной в последний том «Фантазий», ибо если благосклонный читатель хоть немного расположен к удивительному Иоганнесу, то он не может остаться равнодушным к необычайной встрече Вальборна и Крейслера.
Подобно тому как Вальборн сошел с ума от несчастной любви, так и Крейслера, по-видимому, довела до крайней степени безумия совершенно фантастическая любовь к одной певице — по крайней мере на это указывает одна оставленная им рукопись, озаглавленная «Любовь артиста». Это сочинение и некоторые другие, составляющие цикл чисто духовных толкований музыки, может быть, скоро появятся, объединенные в книгу под названием «Проблески сознания безумного музыканта»[5].
1. Письмо барона Вальборна капельмейстеру Крейслеру[6]
Милостивый государь! Как мне довелось узнать, Вы с некоторых пор пребываете в одинаковом со мною положении. А именно: уже давно подозревают, что Вас сделала безумным любовь к искусству, чересчур заметно превысившая меру, установленную для подобных чувств так называемым благорассудительным обществом. Не хватало только одного, чтобы сделать нас обоих настоящими товарищами. Вам, милостивый государь, уже давно надоела вся эта история, и Вы решились обратиться в бегство, я же, напротив, все медлил и оставался на месте, позволял мучить себя и высмеивать, и, что хуже всего, осаждать советами. Все это время лучшей моей усладой были оставленные Вами записки, которые фрейлейн фон Б.[7] — о, звезда в ночи! — иногда разрешала мне просматривать. Мне стало казаться, что когда-то где-то я уже Вас видел. Не Вы ли, милостивый государь, тот маленький странный человек, лицом несколько похожий на Сократа, которого прославил Алкивиад[8], сказав, что, если Бог и скрывается за причудливой маской, он все же, внезапно показываясь, мечет молнии, задорный, влекущий, устрашающий. Не носите ли Вы, милостивый государь, сюртук, цвет которого можно было бы назвать самым необычайным, если бы воротник его не был цвета еще более необычайного? И не заставляет ли покрой этого платья сомневаться — сюртук ли это, переделанный в верхнее платье, или верхнее платье, обращенное в сюртук? Человек с такой внешностью однажды стоял рядом со мной в театре, в то время как на сцене кто-то тщательно пытался подражать итальянскому buffo[9]. Остроумные и живые речи моего соседа превратили плачевное зрелище в комическое. На мой вопрос он назвал себя доктором Шульцем из Ратенова[10], но странная шутовская усмешка, скривившая его рот, помешала мне этому поверить. Не сомневаюсь — это были Вы.
Прежде всего позволю себе сообщить Вам, что я вскоре последовал за Вами и ушел туда же, куда и Вы, — в широкий мир, где, без всякого сомнения, мы с Вами встретимся. Ибо хотя этот мир и кажется огромным, благоразумные люди сделали его страшно тесным для таких людей, как мы, так что где-нибудь мы непременно должны друг с другом столкнуться. Это может случиться в тот момент, когда мы будем спасаться бегством от какого-нибудь рассудительного человека или от упомянутых выше дружеских советов, которые следовало бы короче и без обиняков назвать медленной пыткой.