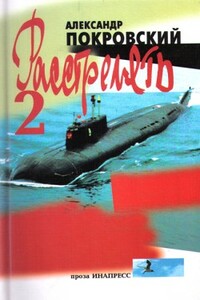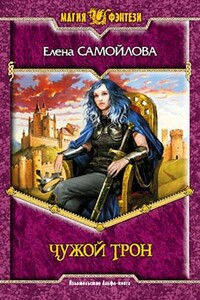Размышления.
О груди, конечно.
Естественно, о женской.
С некоторых пор меня волнует её упругость.
То есть, мне небезразлична её способность восстанавливать свою первоначальную форму при надавливании.
И не то чтобы эта способность вызывает сомнение, – нет!
Просто она не может не волновать.
Вот видишь грудь (там ещё ямочка такая посередине), а потом тебя так и тянет залезть туда пальцем.
А раз залез, то нажал.
А она поддаётся.
А ты ещё надавил, и она ещё раз отозвалась.
Происходит некоторый даже немой разговор между пальцем и грудью. Он ей; «Сударыня, тут такая теснота и совершенно невозможно, чтоб не прижаться».
А она ему: «Не сомневаюсь относительно тесноты. Это так понятно».
И ещё я замечал, что после надавливания остается вроде бы след, видимый только при внимательном очень близком изучении.
Он остается как надежда на повторное нажатие, и таким приглашением невозможно не воспользоваться.
Воспользовался – получилось.
И вот здесь уже возникает небрежение.
У пальца.
Ему начинает казаться, что так будет всегда: надавливание, вслед за тем ожидание последующего надавливания и, как следствие, ещё одно надавливание. Таким образом, образуется привычка, губительная и для груди и для пальца.
Палец лишается трепета, а грудь утрачивает способность усваивать этот трепет.
И ещё о пальце.
Палец должен искать сосок.
И ещё о соске.
Не знаю, что на меня находит, если я сперва вижу сосок, а потом уже его ощущаю. Какое-то необъяснимое, я полагаю, воспламенение, скорее всего.
Я пытался разобраться в этих своих чувствах, но не вышло ни черта – просто мысли разжижение.
Он ещё сморщенный сначала, потому что холодно, понятное дело.
Особенно если его покрывает влажная рубашка белого батиста, которая потом топорщится на бедре.
Осторожненько её снимаем, шепча всякую пришедшую в этот момент на ум глупость, например: «Милая моя, да мы же совсем замёрзли и окончательно окоченели», – после чего следует вышеупомянутое надавливание на грудь, отчего сосок укрепляется, после чего его следует попробовать губами.
И вот тогда-то и происходит то самое разжижение мысли, о котором мы и собираемся поведать.
Течение её происходит неровно, рывками-отрывками, среди которых находятся и такие: «Метаморфоза прозаического опыта… мама моя родимая… музыка, как искусство вообще… ым… обнаруживает свой монотематический бред… ам… " – и прочие.
Просто нет слов.
В человеке струятся жиры. Соки в нем тоже струятся, но жиры – тут дело особое. Они отвечают в человеке за ум.
То есть, жирный человек – это умный человек.
А всё почему? А всё потому, что жир участвует в передаче нервного импульса. Я помню об этом всегда. Особенно когда смотрю на Леху Батюшкова и на нашего командира. Оба жирные, как алтайские сурки, и умные, как они же.
И ещё они легкие. Жир – он же вообще легче чем мясо или же кость. Леха, например, тот вообще ничего не весит, так как он ещё и маленького росточка.
Командир у нас значительно больше, чем Леха, и тяжелее, то есть ума в нем больше. Гораздо.
А что можно придумать от большого ума?
Многое можно придумать. Например, можно придумать не пускать различных негодяев перед автономкой домой с родными попрощаться.
В негодяи попасть очень легко. Надо только сказать что-либо командиру, что ему очень не понравится, и тогда он отберет у тебя пропуск на выход из зоны, и будешь ты целоваться со своими любимыми слишком тонкими губами через очень колючую проволоку.
Ею у нас вся зона режима радиационной безопасности, где мы у пирса прохлаждаемся, целиком обнесена.
Это ещё один умный человек придумал. Зовут его командующий. Он тоже жирный.
А Лёха командиру что-то всё-таки сказал, я полагаю, перед самым отплытием, за что он ему тут же: «Ваш пропуск из зоны!» – и Лёха его отдал.
Опрометчиво, согласен. Потому что я бы ни в жизнь не отдал. Вот режь меня на куски.
Режь меня на части, а потом ешь.
Хрен. Я бы сказал, что я его потерял. Вот прямо тут же, в снегу, сейчас только ножкой поищу, поковыряю. Хотите – обыщите.
Но Лёха отдал. Видимо, растерялся. Но после он в себя пришел и пошел так решительно, я просто не могу, решительно пошел с пирса и прямиком к колючему забору, к нему. А потом и побежал, побежал с мычаньем, с ревом, со слезой, со страданьем, с пеной, потому что ум затмило.
И было во всём этом что-то величаво звериное и красивое, как мясное ассорти.
Мы сразу почуяли вот это неладное и припустились за ним. А он к забору несется, ни за что не догнать. Мы пытались, но никак. Никаких внутренних сил, одно камлание.
А Лёха подбегает, а там проволоки на три метра в высоту, и со всего разгону на нее прыгает – чтоб с разбегу, я полагаю, вломиться и порвать, но в прыжке поворачивается спиной – чтоб не рожей вломиться и порвать, а шинелью.