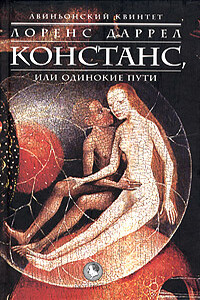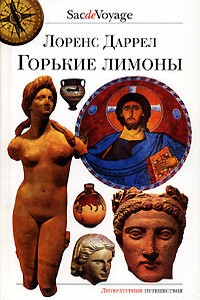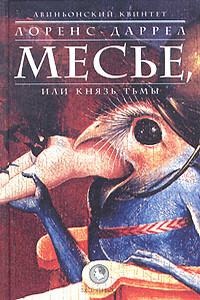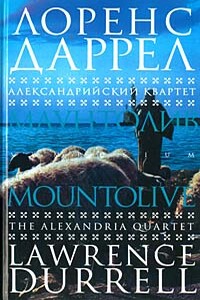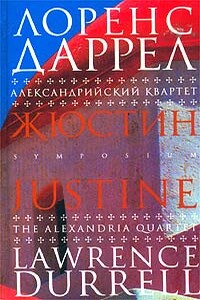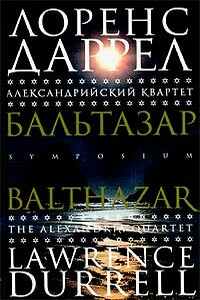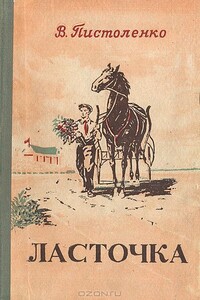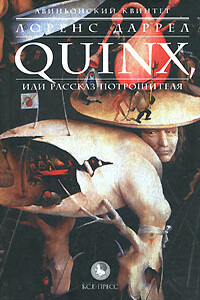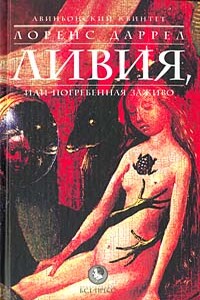Pour faire face des Ténèbres qui a un royaume formè de cinq élèments le Père de la Grandeur évoque la Mére de la Vie qui, à son tour, évoque l'Homme Primordial qui a cinq fils: l'Air, le Vent, la Lumière, l'Eau et le Feu.
Cahiers d'Erudes Cathares, Narbonne[1]
Эта книга не является исторической, однако же в основе сюжета — бесчисленные разговоры и пятнадцать лет жизни в Провансе; и хотя изредка я позволял себе вольности с хронологией проклятой эпохи, в целом мне удалось добиться впечатляющей аккуратности в портрете французского Средиземноморья времен второй мировой войны. Я также изучал труды серьезных историков, подобных Кенварду, но в большей степени обязан французским источникам, скажем, книгам месье Эме Вьельзефа из Нима.
Поначалу я предполагал включить два дополнения — «Протоколы сионских мудрецов» и «Завещание Петра Великого». Но «Протоколы…» столь многословны и нескладны и к тому же доступны в других изданиях, что я отверг эту идею; а вот завещание Петра Первого — документ не затасканный и уместный в этой книге, поэтому я решил его оставить.
В заключение мне хотелось бы выразить свою благодарность востроглазой миссис Хелен Дор, которая спасла меня от множества ошибок.
Вначале высокие башни-ворота средневекового Авиньона, Гог и Магог его мирной жизни, назывались Quiquenparle и Quiquengrogne.[2] Через них жители малого Рима сновали туда-сюда днем и ночью — словно воспоминания, вопросы, ощущения через мозг какого-нибудь спящего папы. Колокола на больших башнях бросали вызов адской вони своим нарочитым грохотом, от которого вниз шла вибрация, разжижавшая кровь и оглушавшая прохожих на улицах. Совсем по-другому звучал набатный колокол — его гул постепенно нарастал, словно шум лесного пожара, захватывающего все новые рубежи, или грозное шипение воинственных пчел в нагревающейся бутылке. Умирающему от голода узнику казалось, будто он всю жизнь слушал этот гул и грохот, и даже военные сирены вроде бы напоминали их. Избив до полусмерти (он потерял сознание), его бросили в сырое узилище в крепости и приковали к стене с такой изуверской точностью, что несчастный не мог лечь — из-за веревки на шее, прикрученной к железному кольцу, и связанных в локтях рук. К этому времени Катрфаж достиг той стадии благословенного забытья, когда все отдельные болевые ощущения слились в одно общее страдание, действовавшее как своего рода анестезия. Усевшись на захламленном обломками полу, он прислонился головой к стене; веревка была короткой, намеренно короткой. Каким-то парадоксальным образом давление ее на сонную артерию предотвращало его окончательный уход в мир иной. Он слышал приглушенный шум военных машин, как они взбирались на мощенный булыжником склон и въезжали на гарнизонный плац; скользили резиновые колеса, заводились и выключались моторы. Ему казалось, будто это длинная цепочка рыцарей, освещая факелами путь, отправлялась на героическое приключение, предписанное орденом тамплиеров; и ритмичное постукивание лошадиных копыт по камням подъемного моста было своего рода прощальным приветствием. Рожденное мукой и болью, видение напомнило ему о реальной стороне его жизни — ведь кто как не он рылся в еретических бумагах тамплиеров, рассчитывая отыскать ключ к сокровищницам с мифическими, надо думать, богатствами. А теперь Катрфаж попал в руки новой инквизиции, хотя эти священники носили серую форму и свастики вместо кокард и амулетов. С ними вновь пришла смерть. Так вот он, результат долгого поиска — пытки из-за не разгаданных им тайн! Когда же от отчаянья он истерически расхохотался, его ударили по лицу и выбили несколько зубов, которые он машинально проглотил. Но это случилось много позже…
* * *
Что до Констанс и Сэма, то они не ощущали себя одинокими, хотя весь мир как будто прощался с ними; и однако же сегодняшний день был пока только преддверием ада, совсем узеньким, где в тени виноградных лоз пока царил абсолютный покой. Мощный прилив прованского лета скоро закончится великолепным урожаем, который, несомненно, сгниет, потому что почти все работники давно призваны в армию, а на земле остались лишь женщины, дети да старики, и им предстояло сойтись в бою с воинствами мирных лоз. Глядя в небо, похожее на голубое стекло, растения, во всей их красе и мощи, словно стремились обнять его своими пышными плюмажами из листьев и пыльных плодов.
Любовники все еще были невинны как дети; они не знали, что такое война и как себя вести по отношению к ней. Из-за этого рождалась неуверенность, которая лишь усиливалась оттого, что они совсем недавно начали предаваться любовным ласкам, потеряв больше месяца на юношеские перестрелки, прежде чем дойти до желаемого. Но никакие головокружительные объятия не могли замаскировать очевидные провалы в знании физической стороны любовного акта. И вот теперь, когда они были уже на подступах к блаженству, им предстояло стать добычей нелепой войны, натравленной на них сумасшедшим немцем, возомнившим себя художником; нет, в реальность войны никак нельзя было поверить!
Однако форму Сэма уже доставили — похоже было, что война втихомолку сделала еще один шаг им навстречу. Правда, мундир требовал переделки, да и фуражка оказалась великоватой. Сэм чувствовал себя одновременно и триумфатором и дураком, когда надел на себя все это перед зеркалом, которое висело в комнате с балконом старого двухэтажного дома. Стесняясь своей наготы, Констанс лежала на сине-золотом покрывале, опершись подбородком на ладони, и ничего не говорила. Полуобнаженный мужчина в военном кителе и фуражке без кокарды выглядел немыслимо печальным и сконфуженным — и немыслимо прекрасным! Сэм не сводил с себя глаз и чувствовал, как в нем что-то меняется. «Устроил пантомиму!» — сказал он наконец и, обернувшись, порывисто обнял Констанс, испытывая отчаянную нежность. Она почувствовала прикосновение холодных пуговиц к груди, когда он прижался к ней со всем пылом обреченного на неведенье новобранца. В безумии, захватывающем мир, они решили и сами совершить нечто безумное — пожениться! Вот глупость! Оба произнесли это, оба почувствовали это. Однако им хотелось стать еще ближе друг к другу, прежде чем они расстанутся, возможно, навсегда. Кстати, в то благословенное лето именно проклятая военная форма стала причиной первой ссоры четырех приятелей.