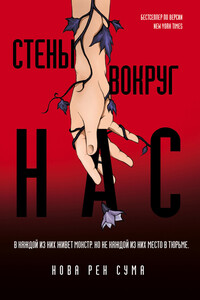* * *
Александр Македонский лежал недвижно. Он только что помочился, и было больно. Болезнь, приобретенная в юности, мучила не только тело, но и душу.
– Полководец, покоривший полмира, не может всласть помочиться, – размышлял он, рассматривая добрую мозаику, украшавшую глухую стену опочивальни.
На ней был изображен сам Александр.
"А глаза, глаза-то, – отвернулся от картины Затмивший Солнце. – Через тысячи лет историки будут спорить... "Глаза философа" – скажет один. "Нет, это глаза жестокосердного завоевателя" – не согласится с ним другой. И никогда они не узнают, что это глаза человека, терзаемого мыслями о следующем мочеиспускании...
...И сны об этом же. Как во время осады Тира... В одном Геракл с крепостной стены протягивает мне руку. Клит[1], мерзавец, сказал, что Геракл – это символ мужской силы и она, эта сила, на недосягаемой для меня высоте.
А другой сон – у источника я пытаюсь схватить сатира, заигрывающего со мной, но он раз за разом ускользает... Прорицатели сказали, что на их языке "сатир" означает "Твой Тир"... Намекали, что возьму все-таки это город. А сон этот приснился мне после того, как из-за боли я облажался перед Барсиной... Клит еще сказал, язвительно улыбаясь, что сатир ассоциировался у меня с Барсиной потому, что у них одинаково волосатые ноги... Понятно, откуда он знает об этом. Его-то отец не заставлял спать в походах на голой земле и снегу... Да, сон и близость с женщинами более всего другого заставляет меня ощущать себя смертным...
...А может быть, обратиться-таки к эскулапам? – продолжал размышлять Александр, несколько раз повторив для памяти сентенцию о сне и половой близости. – Они в Согдиане добрые... Нет, нет, только не это! Весь мир, от последней гетеры до супруги Дария, от нищего до сатрапа узнает, что повелитель ойкумены страдает простатитом... Да что мир! Мой простатит попадет в историю! В тысячелетия!!!
Тут в опочивальню влетел Клит.
– Валяешься, полководец? – спросил он едко. – Затащил цвет древнего мира в эту дыру и раскис. Вставай, давай, пошли в Индию!
– Да ну тебя... Индия, Индия... Прикажи лучше вина подать.
– Что, опять побрызгать толком не можешь? Давай, врача придворного позову? Скажу ему, что это у меня болит?
– Все тайное становится явным... Не могу я, Клит, рисковать своим именем. Не хочу, чтобы в будущем оно муссировалось в учебниках урологии.
– Ну и зря. Я ради него на позорище готов идти, а он выкаблучивается!
– Позорище, позорище... Кто это поверит, что у тебя, Клита, простатит? Мне сообщали, что ты каждую ночь всю Мараканду протрахиваешь... Барсина утром в раскорячку ходила, а морда веселая... Ладно, я подумаю...
– Думай, думай, полководец.
– Послушай, а ты не боишься, что я тебя, того? Ведь только ты о моей болезни знаешь?
– Как тебе сказать... – вздохнул Клит, горько усмехнувшись. – Знаю лишь, что если ты, божественный, решишь меня умертвить, то решение дастся тебе нелегко...
Александр Македонский в порыве привлек к себе товарища. Некоторое время они, растроганные, сидели голова к голове.
– Эх, давай, что ли напьемся, – наконец вздохнул Македонский. – Во хмелю у меня не болит...
К вечеру Александр опять набрался и буйствовал. Успокоившись после бани, предложил идти с войском в верховья Политимета[2], попробовать на зуб тамошние крепостицы.
– А в Индию когда? – спросил Клит, изобразив снисходительную улыбку.
– А в Индию потом....
* * *
Стояла слякотная зима 328/327 годов до нашей эры. На дорогах лежал мокрый снег, скрывавший непролазную грязь, со скал сыпались камни. Но Александру все было нипочем – его что-то влекло. Он стремился к чему-то, как вода стремится к морю. И скоро перед ним предстал Ариамаз – оплот непобежденного Оксиарта...
– Подавишься, – сказал Клит, рассматривая крепость, прилепившуюся к южной стороне неприступной скалы...
– Обижаешь, – усмехнулся Александр. – Забыл, кто я?
И призвал к себе начальника трехсот своих скалолазов и приказал ему взобраться с людьми по северной стороне скалы на самую вершину и подготовить приспособления для подъема солдат и боевой техники.
Двадцать девять скалолазов сорвались в пропасть, но остальные сделали свое дело, и на следующий день город был сдан на милость победителю.
На пир, посвященный этому событию, Александр пригласил Оксиарта. Оксиарт был поражен великодушием Александра[3] и поклялся его отблагодарить.
* * *
...Пир удался. Македонский, конечно же, напился, но никому особенно не досаждал. Уже к вечеру, когда он, зарывшись в подушки с головой, забылся, Оксиарт по просьбе Клита, позвал своих танцовщиц.
Они были так себе – смуглые, кожа в пятнах солнечных ожогов, волосы жирные... Ну, были две-три так себе, стройные, с очаровательными пупками, ну ритм держали, ну была в них откровенная самочность с блеском глаз, сверх всякой меры возбужденных богатыми одеждами македонцев. Ну и что?
Внимательный Оксиарт прочувствовав сексуальный пессимизм Клита, щелкнул пальцами... Самки моментально исчезли, и тут же появились грациозные девушки, с ног до головы скрытые белыми струящимися покрывалами. Некоторое время они танцевали с закрытыми лицами...