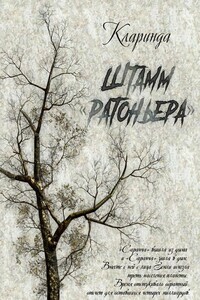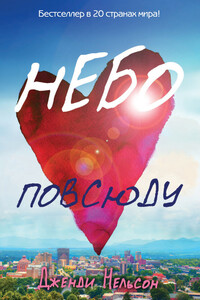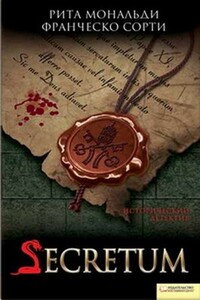0. Пролог, написавшийся неожиданно.
Пойманный в смерть, точно в ловчую сеть,
Я слушал, как пела печаль.
Не знал я, сломав этой жизни печать,
Как больно умеешь ты петь…
[1]
Прошу прощения заране,
Что всё, рассказанное мной,
Случилось не на поле брани,
А вовсе даже просто — в бане,
При переходе из парной.
В. С. Высоцкий.
Участковый милиционер, старший лейтенант Алексей Иванченко обогнул перелесок и вышел к пруду. Был прекрасный летний полдень. Трава сейчас, в конце июня, была еще мягкой и легко стелилась под ноги. Вдали от перелеска виднелась деревня, шоссе угадывалось где-то на горизонте. В теплом густом воздухе звучало басовитое гудение шмелей.
У пруда было на удивление многолюдно — собрались в основном старушки в платочках, почти все население деревни. Иванченко знал, что увидит это; знал он и то, что привычного строения баньки на месте не окажется. Вместо деревянного сруба рядом с прудом было черное пятно пепелища с полуразрушенными стенами. Оперативная группа уже приехала на место без него — старлей разглядел высокую фигуру Самойленко, нового следователя прокуратуры. Присев на единственное целое бревно, записывал что-то в блокнот молодой еще, но толстоватый и лысеющий судмедэксперт Данилов, приятель Иванченко еще со школы. Оперуполномоченный Калашеев, видимо, опрашивал свидетелей. Эти несколько человек стояли поодаль от других жителей деревни. Особняком держались две молодые накрашенные девахи, одна блондинка, другая рыжая. Тощий мужчина с испитым лицом, сильно постарше остальных, покачиваясь, глядел в пространство и мотал головой из стороны в сторону. Еще один, молодой, полноватый, с сильно опухшим лицом и явственным пивным животом отвечал на вопросы опера. Иванченко перешел на быстрый шаг. Поравнявшись с группой деревенских жителей, наскоро поздоровался. Единственный среди тех представитель мужского пола, восьмидесятилетний дед Михеич, державший перед грудью обеими руками кепку, закивал в ответ головой:
— Здорово, Алексей Иваныч, вон, видите, событие-то какое прискорбное…
— Давно они тут, Федор Михеич?
— Недавно… с полчаса будут. А вы уже из больницы выписались?
— Сам ушел! — старлей заторопился к сгоревшей бане. Калашеев как раз откинул рогожу с чего-то, лежавшего на земле, и задал вопрос одутловатому выпивохе. Тот бросил быстрый взгляд вниз, энергично закивал головой и кинулся к ближайшим кустам. Оперуполномоченный подозвал последнего из компании свидетелей, высокого, красивого парня со сросшимися черными бровями. Старлей был уже совсем рядом и расслышал ответ свидетеля.
— Ну, он… Кому ж еще? Зуба те два еще я ему выбил, так что он…
— Спиридонов! — громко окликнул Иванченко. Чернобровый обернулся. Старлей, поравнявшись со свидетелями, быстро и сердито заговорил:
— Ты чем похваляешься, Спиридонов? Зубы выбить, это, к твоему сведению, нанесение телесных средней степени тяжести… Ответить и за это хочешь?
— А при чем тут? — возмутился чернобровый. — И кто обвинять будет? Он уже не подаст, — Спиридонов кивнул в сторону лежащего на земле предмета, который опер уже снова прикрыл рогожей. — К тому же он и сам мне скулу рассек, — чернобровый провел рукой по щеке, — так что квиты.
— Свидетель, — резко сказал Калашеев, — с участковым так не разговаривают. И здороваться будет Пушкин?
— Ох, простите, начальник, — картинно склонился в поклоне Спиридонов. — От меня еще чего надо? Есть еще вопросы?
— Нету, — сухо сказал Калашеев, — свободны.
— А у меня есть, — Иванченко жестом остановил чернобрового. — Спиридонов, ты хоть помнишь, что обещал? И помнишь, что я тебе обещал? Что в следующий раз беседой не ограничусь. Мало того, что Богородицкое от тебя плачет, что ты в Калиновке делал?
— А-а, я понял. Старуха Маркова жалилась? И вы этой выжившей из ума бабке поверили?
— Какого черта ты у нее на бутылку вымогал? Совесть есть?
— Я не вымогал, а культурно просил взаймы. Чем она докажет?
— Просил взаймы! У тебя жена ребенка ждет, а ты…
— Ну, Машка мне не жена, это раз. Дите свое не брошу, это два. Это моя личная жизнь, начальник, это три.
— Тьфу, — сплюнул участковый. — У тебя, вон, человек в бане сгорел…
— Сам виноват, что сгорел. Я его в огонь не пихал. Я сам урон понес, имущества лишился…
— А крышу зачем унесли? — вмешался в разговор Калашеев. — Это улики.
— А как иначе? — искренне возмутился чернобровый. — Мое имущество сгорело, должен же я хоть как-то возместить…
— Ладно, идите, свидетель, — оборвал его оперуполномоченный. — Понадобитесь — вызовем.
— Леха, привет, — крикнул, не поднимаясь с бревна, Данилов. — Как язва-то твоя?
— Привет, — помахал в ответ рукой Иванченко. — Жить буду.
Он поздоровался с остальными.
— Зря ты, Алексей, из больницы сбежал, — наставительно сказал Калашеев. — Язва — дело такое, язва не шутки.
— Я не сбежал, у главврача отпросился. Ведь пожарный дознаватель тоже болен, я и подумал, что если и меня не будет, совсем худо получится.
— Мог бы и лечиться, Леш, — Данилов поднялся с бревна и сложил блокнот. — Дело тут ясное, из пожарной части потом прибудут, посмотрят. Мы еле доехали, хорошо, через Калиновку догадались, там дороги не развезло. А ты как?