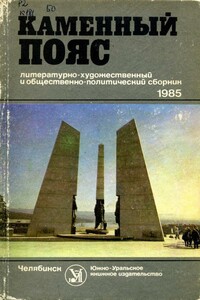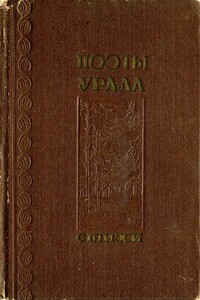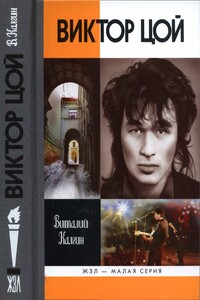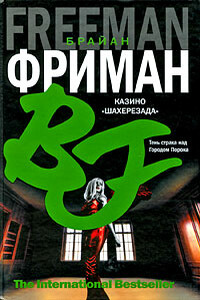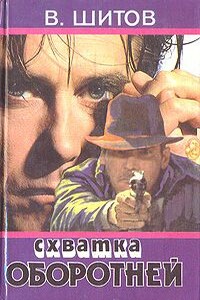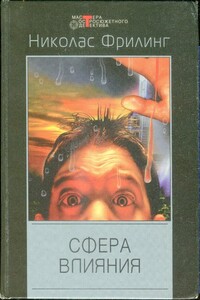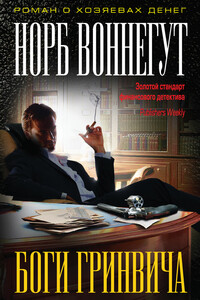Случалось ли тебе, дорогой читатель, совсем одному ночевать у костерка в лесу, далеко от людей? Если хоть раз случилось, ты, конечно, запомнил эту ночь.
Однажды на весенней охоте я задержался до темноты, потерял тропу и вынужден был заночевать в урмане. Было это в начале мая в горном лесу.
Но расскажу по порядку.
Весь день просидел я у озерца и все понапрасну. Хоть плачь — ни одной утки! И там летят, и вон там летят, а мое озерцо, как заколдованное! Одни лысухи посередке озера на волне толкутся. Но какая же это дичь — лысуха? Для новобранцев первого года охоты.
И вдруг к вечеру повалило! Да не к раннему вечеру, когда и положено полетывать утке, а к полной темноте, к звезде ночной, к туману холодному.
Сгоряча пострелял я, да потом сообразил: пустое это занятие. Где в такой темноте дичь соберешь? На лису работать, завтрак ей готовить — не затем ехал.
А тут еще морозец задирается, за ворот лезет.
«Нет, пойду, — думаю, — в деревеньку, у печки обогреюсь, а на зорьке за дело».
А до села верст пятнадцать с хвостиком. Местных — пятнадцать, хвостик — немереный.
Решил — прямиком через лес, вдвое путь короче.
Ну, и забрел, конечно. Поди сообрази направленье в непроглядной этой тьмище.
Шел, шел — плюнул со зла! Сумку — наземь, топорик — из чехла, хворосту нарубил, костерище разжег.
Хорошая это штука — ночной костер в майском горном лесу! Сосны будто из позеленевшей меди вокруг тебя стоят, тяжелыми черными ветками чуть вздрагивают. А за ними, за соснами, кажется, густым мазутом все залито. И там, в мазуте этом, мерещатся злобные морды волков, длиннющие спины лисиц, застывшие в удивлении глаза медвежьи и тысячи тысяч птиц, зверушек, насекомых.
Земля вокруг костра подтаивает, от зимней зяби отходит, парок от нее поднимается.
Сижу у костра, консервы кое-как доедаю. Ложка из рук валится. Не восемнадцать лет все же — намаешься за целый день, наволнуешься, хоть подпорки в глаза ставь, — закрываются.
Не доел я эти консервы, заснул.
Самую малость спал, — так казалось.
Проснулся — будто толкнул кто-то. И сразу — палец на предохранитель, — вперед его. Оба ствола «Зауэра» к бою готовы.
Смотрю, и не вижу ничего. Костер-то совсем поник. А чую: вот она — опасность. Рядом. В чаще лесной.
Медведь? Волк? Бродяга, бежавший из заключенья? Что я ему? Ружье? Документы? Ах ты, беда, какая: в стволах-то у меня дробь утиная — тройка.
Лихорадочно соображаю: где яканы? Где они спрятаны у меня, эти свинцовые пули с ребрами, что и медведю голову разворотят начисто?
Вспомнил: в правом кармане!
Тихонько руку тяну к карману, нащупываю патроны.
И вдруг голос в мертвой тишине:
— Опустите ружье! Не валяйте дурака!
«Ах, черт! Если худой человек, так это и волка хуже».
— Вот я тебе как «опущу» сейчас, своих не узнаешь!
А из тьмищи лесной в ответ только: «Ха-ха-ха!» Будто огромный филин потешается.
И чего смеется, бестия?!
Поднял я «Зауэр», пальцы — на спусках: ткнись, попробуй!
Только чувствую — позади, на плечах моих — руки.
«Тот, что смеялся?! Или другой? Сколько их?»
А голос позади:
— Бросьте вы, милейший, хорохориться!
Не успел я нож из-за пояса вырвать — полетел нож в темень лесную, к соснам из тусклой меди, к волкам с хищными мордами, к длинноспинным лисицам, к медведям любопытным.
— Давайте знакомиться, — говорит голос. — Смолин.
Оборачиваюсь — в упор на меня глаза строгие смотрят. Человек смеется, а глаза у него суровые какие-то. Будто отдельно от лица живут.
«А, была не была!»
Называю себя. Рекомендуюсь: стихотворец.
— Знаю, — говорит неизвестный. — Вы даже по уткам стихами стреляете.
— Это как так?
— А так. На пыжах бумажных — рифмованные строчки. Я несколько стреляных стишков подобрал.
«Ох, — думаю, — следил за мной».
Но виду не подаю.
— Вот, — говорю, — не успел до деревни добраться.
И называю деревеньку.
— Знаю, — говорит человек. — У Вяхиря остановились.
«Не иначе — следил!» А сам спрашиваю:
— А вы из деревни давно ли?
— Я там не был, — отвечает. — Только к вечеру из города приехал.
«М-да. Дрянное мое делю. Сообщники у него тут. Не иначе».
А человек продолжает:
— Вы что же, левую ногу натерли или поранили? Что у вас с левой ногой случилось?
— Ничего особенного, — отвечаю. — Отличная нога. И здоровье у меня отменное. Тяжелоатлет я, — любитель, правда, — но жим у меня, говорят, сто́ящий.
Это я ночного гостя пугаю. На всякий случай.
А человек мимо ушей это пропустил и спрашивает:
— У меня, знаете ли, подряд три осечки «ижевка» дала. Нет ли у вас с собой гантелей?
«Что за черт? Какие там еще гантели? Новинка охотничья разве?»
— Нет, нету. Барклай с собой, шомпол есть, а вот гантелей не захватил. Дома оставил. По рассеянности.
— То-то, вижу, по рассеянности, — говорит человек. — Гантели — это гири такие, рукояткой соединенные. Тяжелоатлетам без них нельзя.
Потом посмотрел на меня пристально и говорит:
— А вы, никак, меня за разбойника принимаете?
Растерялся я, видно, от этого странного вопроса и отвечаю:
— Ну, да, за разбойника. А что?
— Мне, действительно, с бандитами иногда дело иметь приходится. Но вы не тревожьтесь.
«Ей богу, черт знает что такое! Человек с бандитами дело имеет, а я ему в лесу, ночью, — улыбайся, что ли?»