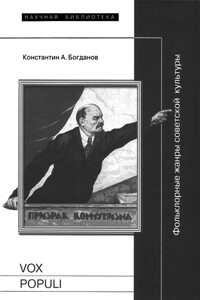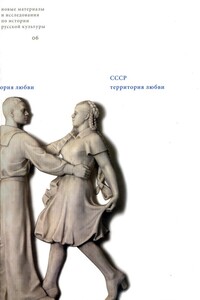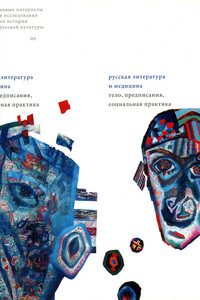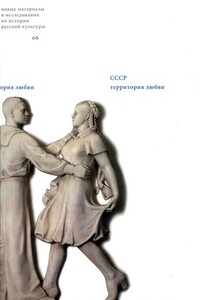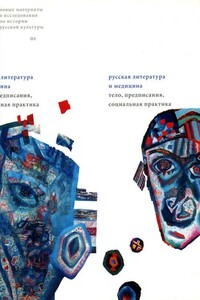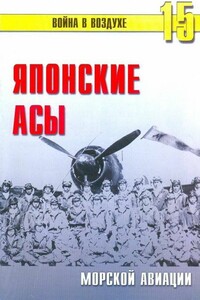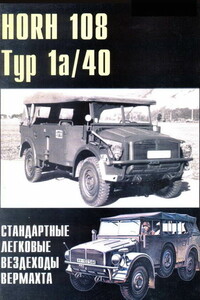В плену у людоедов.
Правдивый рассказ Кукеля
Какие ассоциации мы связываем с каннибализмом? Если судить об истории понятий по характеру употребляемых при них эпитетов, в перспективе европейской истории ассоциации, связываемые с понятием каннибализма, достаточно однозначны: каннибализм, так же как и людоедство, указывает на патологию в отношении само собой разумеющейся нормы. В европейской литературе наиболее ранняя оценка подобного рода принадлежит, как известно, уже Гомеру: циклоп Полифем пожирает спутников Одиссея и заслуживает оправдываемой по контексту мести. Гомеру вторит Гесиод: антропоморфный Кронос пожирает своих детей и тоже заслуживает кары. Чем больше упоминаний о людоедстве, тем больше устрашающих и недвусмысленных в своей морали эпитетов. Людоедство – либо преступление, либо наказание, бесчестящее не только людей, но самих богов. Тантал, испытывающий всеведение богов, угощает их мясом своего сына Пелопса, и наказывается за это вечными муками. Бросая вызов богам, Атрей мстит Фиесту, подавая ему в качестве угощения мясо его собственных детей. Ужасна месть Прокны, скармливающей своему мужу Терею убитого ею сына Итиса. И т. д., и т. п. Реальность каннибализма – это реальность нечеловеческого, беззаконного опыта. Людоеды, обитающие, по Геродоту, на севере Скифии, досягаемы с географической точки зрения, но свидетельствуют о том же, о чем свидетельствуют истории Полифема, Кроноса или, например, похищающей и пожирающей детей Ламии. Людоед – нелюдь, и само его существование, вынесенное на границу социального общежития, символично, представая пограничным к человеческому сознанию и социальному порядку.
Изображая людоедство как примету действительности (мифологической или исторической), противостоящей человеческому общежитию и благоволящим к людям богам, античные авторы упоминают о каннибализме, чтобы лишний раз подчеркнуть превосходство своей собственной культуры над культурой чужаков. Так, Ювенал, описывая в одной из своих сатир вражду двух египетских городов, Омба и Тентиры, изображает, как победители пожирают пленных:
Падает кто-то из них, убегающий в крайнем испуге,
Пал кувырком – и в плену! Тут его разрубают на части:
Много кусков, чтоб его одного хватило на многих, –
И победители съели его, обглодали все кости,
Даже в кипящем котле не сварив, не втыкая на вертел:
Слишком им кажется долгим огня дожидаться, немедля
Труп пожирают сырой, находя наслаждение в этом .
Дикость египтян усугубляется тем, что они не только людоеды, но и тем, что человеческое мясо они едят сырым. (Противопоставление сырого и вареного, как помним, позже Леви-Стросс опишет как фундаментальную оппозицию природы и культуры). Это людоедство вольное, а не вынужденное. Вспоминая ниже басков, вынужденных в годы войны есть человеческое мясо, Ювенал их если не оправдывает, то по меньшей мере извиняет («К ним Судьба была зла, доведя до последней страшной нужды при долгой осаде»). Однако и вынужденное людоедство, при всех оговорках, остается все-таки людоедством, обнаруживающим меру человеческой дикости. Юлий Цезарь в «Записках о Галльской войне» описывает осаду города Алесии, защитники которого перед лицом голодной смерти обсуждают допустимость людоедства. В пользу людоедства высказывается один из вождей галлов Критогнат, напоминающий соплеменникам аналогичный пример из войны предков с кимбрами и тевтонами. В изложении Цезаря речь Критогната – речь варвара, заслуживающая внимания «по своей исключительной и безбожной свирепости» и демонстрирующая позицию, оправдывающую действия самого Цезаря: враги, предпочитающие людоедство римскому подданству, едва ли могут вообще называться людьми.
Примеры можно множить, но любопытно, что именно в античности мы находим попытку подойти к людоедству с иной точки зрения. По изложению Секста Эмпирика, для стоиков –
«примером их благоволения к умершим будут наставления в людоедстве. Ведь они считают, что нужно есть не только мертвых, но и свое собственное тело, если случится какой-либо его части быть отрезанной. Хрисипп сказал в труде “О справедливости” так: “Если отпадет от членов тела какая-либо часть, годная в пищу, то не следует зарывать ее, ни отбрасывать в сторону, но надо съесть ее, чтобы другая часть возникла из наших частей”. В сочинении “О долге”, рассуждая о погребении родителей, он выразительно говорит: “По кончине родителей надо погребать их как можно проще, как если бы их тело ничего не значило для нас, подобно ногтям или волосам, и как если бы мы не были обязаны ему подобным вниманием и заботливостью. Поэтому если мясо родителей годно для пищи, то пусть воспользуются им, как следует пользоваться и собственными членами, например, отрубленной ногой и тому подобным”».
В «Сатириконе» Петрония (60-е гг. I в. н.э.) Евмолп оглашает завещание, обязывающее наследников съесть его труп. Свое условие Евмолп аргументирует, ссылаясь на исторические прецеденты:
«Так вот сагунтинцы, Ганнибалом теснимые, ели человечину, а ведь наследства не ждали! То же делали изголодавшиеся петелийцы, а ведь они не искали ничего, кроме утишения голода. А когда взял Сципион Нуманцию, нашли и таких матерей, что в руках держали собственных детей обглоданные тела».